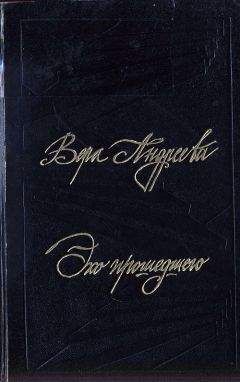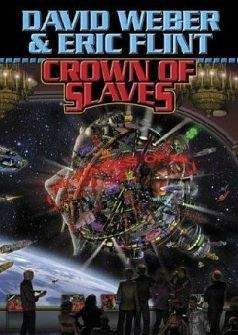Конечно, тут еще был и Дуглас Фербенкс — такого Зорро-мстителя, такого насквозь пропитанного романтикой Багдадского вора, такого Робин Гуда, каким был этот необычайно ловкий, жизнерадостный, подкупающе искренний актер, гимнаст, почти акробат, только и можно себе представить. Сколько потом было этих Зорро-мстителей, но ни один не сравнился с Дугласом Фербенксом, «Дугом», как ласково-фамильярно называл его Саввка. Еще бы: многие говорили, что Саввка похож на Дугласа Фербенкса и лицом, и фигурой, а главное — этой непостижимой легкостью движений, изяществом каждого прыжка, подкупающей непринужденностью каждого жеста. Любой молодой мужчина, если поднатужится, может перепрыгнуть, скажем, через стул, вопрос — как он это сделает? Он сморщится от усилий, неуклюже разбежится, с треском оттолкнется от пола, разбросав в стороны руки и ноги, кое-как перелетит через стул и с грохотом обрушится на пол, с трудом сохраняя равновесие. А Дуглас? Неуловимым движением, совсем не разбегаясь, а прямо с места он взлетает над стулом, даже как бы задержится над ним, как птица, поддерживаемая восходящей струей воздуха, и потом мягко, бесшумно опустится на пол — все это непринужденно улыбаясь, как бы между прочим.
Помню, на пляже в Понтайаке Саввка выделывал какие-то свои акробатические прыжки и трюки — залезал на сваи ресторана, прыгал через стулья. Публика с большим восхищением любовалась им, а одна сумасшедшая американка решила, что он действительно Дуглас Фербенкс, инкогнито путешествующий по Франции, погналась за ним с фотоаппаратом, но Саввка, загадочно улыбаясь дугласовской ослепительной улыбкой, предпочел удрать от нее подальше, так и не раскрыв своего инкогнито.
Слегка обалдев от количества впечатлений, уже к вечеру я прибывала в пансион. Наскоро поужинав, обитательницы нашей комнаты укладывались в постели, и я принималась рассказывать содержание всех этих трех или четырех фильмов. Увлекаясь общим вниманием, я рассказывала со всеми подробностями, описывала наружность любимых героев, их влюбленные взгляды, выражение их лиц, когда переходя на шепот, когда подчеркивая драматизм ситуаций театральными паузами, я держала в напряжении своих слушательниц, совсем упустивших из виду, что по пансионным законам давно пора спать.
Вдруг распахивается дверь, вспыхивает свет. Резкий окрик:
— Андреева, я давно слышу твой голос! — повергает всех в ужас, все ныряют под одеяла, а я нахально говорю сонным голосом:
— Это вовсе не я, здесь все молчали…
Сбитая с толку воспитательница неуверенно вопрошает:
— Кто разговаривал? Признавайтесь!
Никто, конечно, не признается, и «Цапля», посрамленная, уходит. Напрасно, значит, она подслушивала под дверью — ха-ха! По поводу этого подслушивания про нее сочиняли стихи под Лермонтова:
…По гладким доскам коридора,
Лишь десять пробьет на часах,
Зловещая Цапля несется,
Несется на длинных ногах.
Не гнутся тощие ноги,
На них башмаки не скрипят,
И молча в открытые щели
Змеиные глазки глядят.
После одного слишком резкого разговора с Цаплей я сгоряча совершила оплошность — взяла да и уехала во Вшеноры к сестре Нине. Там, решив, что мне все равно в пансионе не бывать, я сняла комнату. Недели через две я с некоторым беспокойством явилась в гимназию — мне было не совсем ясно, как я объясню учителям свое долгое отсутствие. Все как будто обошлось, но на переменке мне сказали, что меня вызывает директор.
Строго глядя на меня, директор спросил, почему это я так долго отсутствовала. У меня душа ушла в пятки, и я пробормотала что-то насчет болезни, но он не дал мне договорить и сказал такое, отчего все окружающее как-то завертелось и неожиданно для самой себя я очутилась уже сидящей на стуле, а директор оказался передо мной со стаканом воды в руке. Я залилась горькими слезами:
— Как это? Меня исключают из гимназии? За что? Что я такого сделала?
Значительно потеплевшим голосом — все-таки он здорово испугался — директор объяснил мне, что существует гимназическое правило: если ученик (ца) отсутствуют, не объясняя причины, более двух недель, то их автоматически вычеркивают из списков учащихся.
— Но… — тут он сделал многозначительную паузу, — вы отсутствовали не больше двух недель, а на два дня меньше, поэтому мы, пожалуй, оставим вас в списках. Тем не менее за дерзкие ответы воспитательнице Маргарите Францевне вы исключаетесь из списков воспитанниц пансиона.
«Ну, чепуха какая, — мелькнуло у меня в голове, — главное, что из гимназии не исключают!» И, слезно поблагодарив директора, я отправилась восвояси.
Осень продолжалась, становилось все холоднее в моем насквозь продуваемом домике, к тому же по вечерам, когда я приезжала из гимназии, меня томил волчий голод — обедала-то я в гимназии в 12 часов дня, а потом, вместо обильного пансионного ужина, должна была довольствоваться булочками с чаем… Вскоре у меня кончились выпрошенные у мамы деньги — и досталось же мне за уход из пансиона! — и пришлось «брать на книжку» у лавочника Соботки. Вскоре я слишком хорошо поняла коварное свойство долговой книжки, когда совершенно незаметно к булочкам лавочник стал приписывать и масло, и колбасу, и варенье… Я диктую, а он проворно записывает… Внутренне вся похолодев, чувствуя себя преступницей, не смея даже в уме прикинуть стоимость всего, что так безвольно я заказывала, испытывая страшные угрызения совести, я тем не менее приходила в свой домик, растапливала плиту дровишками и углем, принесенным от того же Соботки, и, тяжело вздыхая, пила дымящийся чай с отборной снедью, — на аппетит почему-то угрызения совести не действовали.
Началась зима, та знаменитая снежная зима 1927/28 года, когда грянули морозы в 25–30 градусов, совершенно исключительные для Чехословакии.
Вшеноры засыпало снегом, всякое движение поездов прекратилось, школы закрылись. Я оказалась отрезанной от мира в своем оледенелом домике, без еды, без топлива, так как Соботка потребовал оплаты всех яств, которые он мне дал в долг. Я стала заходить к тем немногим знакомым, которые еще оставались с прежних времен во Вшенорах: к Чириковым, к Мусе, милой доброй женщине, к еще другим дамам в Мокропсах — все это были очень бедные люди, и мне ужасно совестно было оставаться у них на обед, пить у них чай, греться у их печки — они сами недоедали, сами мерзли в эту ужасную зиму, которой, казалось, не будет конца. Я старательно чередовала своих знакомых, и сколько раз, бывало, приходила домой, так и не осмелившись принять приглашение «поужинать с нами»: я же видела приготовления к этому ужину — немного картошки в мундире (какой аппетитной, какой ароматной!), чай (какой горячий, какой сладкий!), — если бы я осталась, кому-нибудь из членов семьи не хватило бы этой скудной еды.