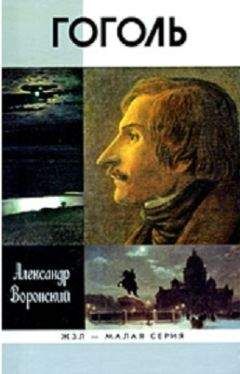— Слава богу, что не скоро это стрясется, а то мой обожрался бы в первый день. Я от него и сейчас всё прячу.
Митенька смущённо закашлялся.
— У меня же болезнь. Тогда лечить будут.
— Тебя вылечишь! Только и знаешь шастать по шкафам и печкам. Никогда этого, по-моему, не будет, — твёрдо заключила она. — В одну неделю всё полопают!
Слободин возразил:
— Это сейчас человек жаден от плохой жизни: злят и дразнят его… а так он ничего… человек-то.
В отместку, должно быть, Нюре, Митенька спросил, улыбаясь:
— Правда это, будто тогда от баб можно отказываться, когда только задумаешь? От них сладу нет.
У Нюры поднялась грудь.
— Закройся, шатун, закройся ладошкой. Бабы-то первыми от вас, непутёвых, уйдут.
— За один трудовой талон две бабы купим, — не унимался Митенька.
Не стерпев, Нюра подалась в кухню, в дверях бросила:
— Вот я посмотрю, как ты у меня завтра запоёшь утром без кофею… ей-ей, ничего не дам.
— Ну, ты того, не очень, — сразу сдался Митенька.
Ходил я также в кружок гвоздильного завода. Он собирался в посёлке за городом, у Нефёдова. Вдумчивый и начитанный, Нефёдов веско держал себя на заводе и среди товарищей, говорил мало, но твёрдо, в доме следил за чистотой и порядком, был добрым семьянином, и я любил смотреть, как приятно и широко он улыбался, когда играл со своими малолетними детьми.
Однажды вечером, после очередного собрания, я отправился из посёлка в город, когда разбушевалась метель. Рабочие уговаривали остаться на ночь у Нефёдова, я отказался. Едва я вышел из посёлка, со всех сторон меня охватил буран. Колкий, сухой снег слепил глаза, хлестал больно в лицо. Небо и земля смешались в одну тёмно-серую муть, вьюга выла, шипела, дико свистела, свивала воронки и жгуты. Скоро я сбился с дороги, но продолжал идти: вдали слышались паровозные гудки и я был уверен, что они помогут найти город. Я увязал в снегу, падал, натыкался на колья, торчавшие по всему пустырю почему-то в большом количестве. Неожиданно я погрузился глубоко в снег. Попытался выбраться, но завяз ещё глубже. Снег доходил до шеи. Я барахтался, разгребал кругом себя — это не помогло. Я попал в яму. Снег набился в рукава, за ворот, за пазуху. Силы меня покидали. «Не выберусь». На меня напал страх. Шевелились сугробы, снежные вихри взмётывались смертными саванами, косяки снега гнались друг за другом, и мелкая поземка, дымясь, стлалась, будто бежали сплошные стада седых и злых зверьков. Меня заносила пурга. «Не может быть, невероятно. Разве я могу погибнуть?» Представилось, будто всю свою жизнь я шёл к какой-то очень важной и заранее известной цели. «Неужели же может исчезнуть всё это, вся моя жизнь оттого, что я оступился, поставил не туда, куда следует, ногу? Нет, это невозможно, это дико, чудовищно». Я вспомнил, что в опасные для жизни моменты никогда не следует терять самообладания, попытался себя успокоить. Отчасти это удалось. Снова и снова я стал карабкаться из ямы и опять обессилел. Я уже озяб, пальцы на руках окоченели. Я снял перчатки, поднёс руки ко рту — обогреть их дыханием. Пальцы стали бескровными. Я содрогнулся от жалости и горькой последней любви к своей плоти и закричал тонко и неистово. Я не узнал своего голоса в этом подвизгивающем завывании, но в следующее мгновение я кричал уже проще и увереннее. Это меня немного успокоило. Вдруг показалось мне, что я вижу впереди себя огонёк. Но его уже не было. Вот он мелькнул опять и тут же пропал. Я напрягал зрение. Огонёк, неверный, одинокий, беспомощный и в то же время такой близкий и родной, то пропадал, то на мгновение появлялся. Белёсоватый и туманный, он висел в пустоте — моя надежда, спасение, моя жизнь. Иногда он исчезал надолго, я ждал, я жаждал его. Он мелькал, и я боялся, ужасался, что вот-вот он загаснет совсем, навеки. Всё существо моё сосредоточилось на спасительном пятне. Огонь не приближался и не удалялся. Я не знал, чем он может помочь; из ямы я выбраться не мог, на голос никто не откликался, но я верил, доверялся ему: он показывал, что жилье недалеко, он оставался последним прибежищем и пристанищем. Мои органы: слух и зрение, обоняние, осязание, мускульное чувство — с особой, обостренной силой воспринимали, ловили окружающее, но я ощутил так же, как никогда не ощущал, что они не только воспринимают, но и хотят, хотят страстно и неистово.
Был потом момент, когда я вспомнил, как умирала моя родственница, молодая женщина. К ней привели проститься семилетнюю дочь, тонкую светловолосую девочку Полю. Мать металась в предсмертной агонии с изуродованным и воспалённым лицом. Я посмотрел на Полю. Её испуганные глаза неимоверно расширились, мертвенная бледность покрыла её лицо, оно тоже подёргивалось в судорогах. Почти чёрная синева поползла из-под глаз по щекам, к губам, ко лбу. Поля не сводила отчуждённого, застывшего взгляда с матери. Я наблюдал её смерть через лицо девочки, и это было почему-то всего страшней. Вот это я вспомнил и закричал снова, надрывая лёгкие.
— Го-го-го! — раздался вблизи осипший, но явственный голос. Я откликнулся. Мохнатая, облепленная снегом фигура склонилась ко мне в яму.
— По какому случаю? — строго спросил человек, будто осуждая за нарушение порядка. Не дожидаясь ответа, он вытащил меня из ямы.
— Рази тут можно ходить, — сказал спаситель, стараясь разглядеть меня, — или ты впервой здесь? Тут летом солдат обучают, окопы тут, рвы. Счастье твоё, что услыхал я тебя: закоченел бы насмерть.
Я отряхнул снег, отдышался, мы пошли в город. Избавитель мой оказался сцепщиком. Косо поглядывая из-под нахлобученной бараньей шапки, он спросил, зачем я был в посёлке. Я ответил, что ходил к родным.
— Какие же у тебя там сродственники, зовут как?
Я назвал первую пришедшую на ум фамилию.
— Я сам живу в посёлке, а таких не слыхал, — отрубил он, обиженно замолчал, посмотрев на меня ещё с большим недоверием. Мы дошли до города молча. Расставаясь, я долго благодарил сцепщика.
Он сурово меня перебил:
— Мне твоих спасибов не надо. Ты лучше полтинник дай — согреться.
У него было худое, едкое лицо, длинные, свисающие вниз усы, и как будто он был недоволен, что вытащил меня из ямы. Я дал ему денег. Ни слова не сказав на прощанье, он засунул руки в карманы романовского кислого полушубка, втянул глубже голову в башлык, зашагал в сторону широкой и кривой поступью…
…Когда в зимние, метельные, поздние вечера я слышу далёкий окраинный собачий лай, мне всё кажется, что он даёт знать о бездомной, об одинокой смерти в наших российских, студёных, сугробистых просторах. В яме я тоже выл по-собачьи. В эти часы в деревне глухо и тревожно каждые полчаса звонят редким погребальным звоном, подавая весть о жилье гибнущим. Если потом подойти близко к церкви, то слышно, как вверху на колокольне от бурана низко и подземно гудят сплошным гулом колокола.