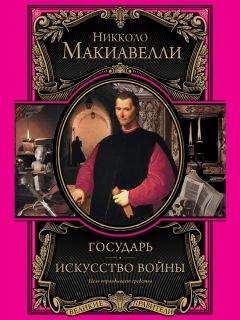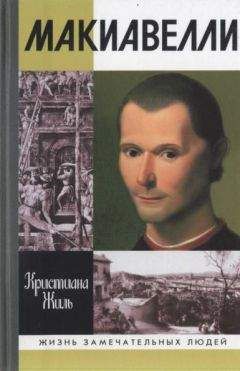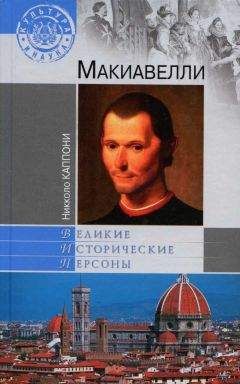Пестрый конгломерат государств, среди которых и районы с типично активной экономической политикой, как Флоренция и особенно Венеция, и не менее крупные – с типично пассивной: Рим, ненасытная утроба-потребительница, и полуфеодальный Неаполь. Каждое из этих государств, больших и малых, гораздо теснее было связано со своими сырьевыми базами и с рынками сбыта вне Италии, чем одно с другим. Наоборот, друг с другом они чаще всего были конкурентами или очень несговорчивыми и не всегда добросовестными контрагентами.
Экономические противоположности были чрезвычайно неуступчивы, так как в них кристаллизовались результаты очень раннего и буйного роста благосостояния, обострившего местные особенности. И самый гениальный политик не сумел бы в этот момент найти равнодействующую, которая сгладила бы эти противоречия. Лишь постепенно, веками, стали утрачивать они свою остроту, и между отдельными частями страны могло установиться такое хозяйственное сотрудничество, при котором политическое объединение сделалось возможно.
Когда Макиавелли поступил на службу (1498), уже исполнилось многое из того, что предвидел и чего боялся Лоренцо Медичи. Французское рыцарство прошло через всю Италию с Карлом VIII, ограбив ее, а теперь собирался завоевывать Милан преемник Карла, Людовик XII[299]. В Англии купцы и банкиры итальянские терпели поношение и вытеснялись с острова с немалым ущербом. В Испании борьба с маврами была кончена, и Гонсальво Кордовский, il gran capitano[300], дал уже почувствовать силу своего меча неаполитанской земле. Турки настойчиво и методично продолжали свои завоевания.
В поисках путей в Индию генуэзец Христофор Колумб нашел Америку, но его открытие принесло огромные выгоды Испании и до корня потрясло весь организм итальянской торговли. Ее приходилось свертывать все больше. Промышленность итальянских городов все с большим трудом находила сбыт для своих изделий.
Падали доходы. Уменьшались богатства. И – что было страшнее всего – будущее не сулило никакого улучшения. Эпохе хозяйственного расцвета итальянской буржуазии приходил конец по-настоящему. Поднимали голову другие классы – землевладельческие, и уже начинали кое-где играть заметную роль.
Открывалась новая эра. Ее назовут потом эрою феодальной реакции. Потрясениями, которые она принесла Италии, страна расплачивалась за процветание предыдущих четырех веков. Европа, которую Италия эксплуатировала столько времени, дождалась наконец момента, когда страна величайших богатств оказалась перед нею беззащитной. Старые феодальные государства переживали подъем, Италия – уклон. За Альпами начиналась ликвидация феодальных отношений, сковывавших хозяйственный рост, Италию заливали волны нового феодального прилива.
Время было насыщено событиями грозными и важными и, как всякая переломная пора, давало неисчерпаемый материал для наблюдения и анализа. Макиавелли стоял в самой гуще жизни и прекрасно понимал смысл происходившего. Он видел, что продвижение капиталов в деревню раскалывает буржуазию, лишает ее политического веса и, наоборот, увеличивает политический вес враждебных буржуазии феодальных классов. Он был флорентиец и знал, как опасна такая ситуация.
Чтобы понять ход его мыслей, нужно бросить взгляд на эволюцию общественных классов в родном его городе.
VI
Медичи пришли к власти (1434), опираясь на мелкую буржуазию, на ремесленные цехи, в борьбе с представителями крупного капитала, к которым принадлежали сами. Противники Медичи, Альбицци и их сторонники, представляли торгово-промышленный капитал. Им нужны были рынки сбыта. Они стремились к экспансии, вели завоевательную политику, истощали казну и не давали работы ремесленникам. Медичи представляли банковский капитал, в экспансии были заинтересованы мало, проводили политику бережливости и тратили огромные деньги на украшение города.
Но ни Козимо, ни Пьеро, ни особенно Лоренцо никогда не отождествляли своих интересов с интересами ремесленного класса. Они были плотью от плоти и кровью от крови крупной буржуазии. Ремесленники нужны были им как опора, пока власть их не укрепилась окончательно. Когда Лоренцо почувствовал, что этот момент настал, политическая демагогия была выброшена вон, и он перестал скрывать свое настоящее лицо. Случилось это после заговора Пацци и окончания войны против Рима и Неаполя, в 1480 году.
Именно в это время была создана твердыня медичийской деспотии – Совет семидесяти, орган, назначавший Синьорию и из своей среды выделявший комиссии с главнейшими правительственными функциями. Ввиду исключительной важности этой коллегии состав ее должен был быть подобран особенно тщательно. И Лоренцо подобрал. В Совет семидесяти вошли крупнейшие представители самой богатой буржуазии, как раз те, которые, подобно Лоренцо, имели большие вложения капиталов в землю.
Их нужно было заинтересовать в сохранении власти Лоренцо и сделать, таким образом, орудиями династической политики Медичи. Это было достигнуто прежде всего податной системой. Налоги чрезвычайно заботливо обходили земельную ренту и обрушивались всей тяжестью на доходы с торговли и промышленности. Постоянная приобщенность к власти давала, кроме того, неисчислимые выгоды, а непрерывные продления полномочий «семидесяти» создавали атмосферу большой уверенности.
Вместе с Лоренцо правила верхушка крупной буржуазии, ее рантьерская группа[301]. Его правление, представлявшее собою организацию власти именно этой группы, было усовершенствованием принципов той самой олигархии, против которой так упорно боролись дед Лоренцо, Козимо, и прадед Джованни. И, естественно, оно вызывало недовольство других кругов буржуазии, интересы которых беспощадно приносились в жертву.
Это недовольство прорвалось наружу, когда после смерти Лоренцо власть перешла к его сыну. Предательство Пьеро, сдавшего в 1494 году флорентийские крепости французам, послужило предлогом. Медичи были изгнаны, причем даже члены «семидесяти» не очень их защищали, надеясь без Медичи создать настоящую олигархию, при которой не приходилось бы львиную долю выгод отдавать синьору-правителю. Но этим надеждам не суждено было сбыться: другие группы буржуазии при поддержке ремесленников, цеховых и нецеховых, провели конституционную реформу. Основные ее линии сначала правильно наметил, потом безнадежно запутал Савонарола.
Этот гениальный монах был полной противоположностью Макиавелли: недаром он был совершенно не понят им. Там, где у одного было трезвое размышление, у другого была интуиция, где у одного анализ – у другого религиозный пафос, где у одного продуманное знание – у другого видения.