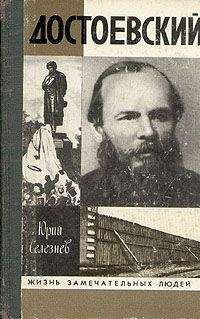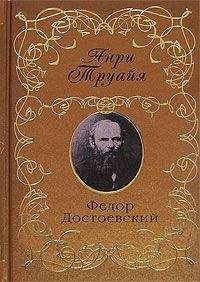— Поставьте себя на минуту, всего на одну минуту, на ее место, — голос его дрожал. — Представьте, постарайтесь, Анна Григорьевна, голубчик, представьте, будто этот художник — я, и что это я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, бога ради, что бы вы мне ответили?
Она смотрела на него непонимающим взглядом: он был так взволнован, в глазах его была такая тоска ожидания, его бледное лицо, такое дорогое ей лицо, высказывало столько смущения и сердечной муки, что она вдруг все поняла, и ее охватило ощущение такой радости, такого невозможного счастья, потому что она ведь его с первого, да-да, с первого взгляда... нет, всю ее жизнь...
— Я... Я бы ответила вам, что вас люблю и буду любить всегда...
О помолвке решили пока никому не говорить, кроме матери Анны Григорьевны, конечно, однако, вскоре секрет их раскрылся и стал предметом оживленных пересудов родственников и других доброжелателей. Одним из первых заподозрил недоброе Паша: Федор Михайлович не стал уклоняться от прямого ответа, когда, пораженный неблагоразумием отчима и возмущенный тем, что он не спросил у него даже совета и согласия на столь очевидно смехотворный шаг, пасынок увещевал его опомниться, не смешить добрых людей, ведь он уже старик и ему не по силам начинать новую семейную жизнь. Примчалась и Эмилия Федоровна.
— Зачем вам жениться? — напустилась на Федора Михайловича. — У вас и в первом-то браке детей не было, а ведь вы тогда помоложе все-таки были; да и об обязательствах перед семьей брата забывать бы не следовало...
— Я вам как врач и почитатель ваш, желая добра, настоятельно советую отказаться от столь опрометчивого решения, — уговаривал его Эдуард Андреевич Юнге, профессор глазных болезней, лечивший его глаз, пострадавший при эпилептическом припадке. — Поверьте хоть науке; опыт показывает, что при столь великой разнице в летах ваш союз не может привести ни к какой семейной гармонии, не говоря уже о сколь-нибудь продолжительной, да и состояние вашего здоровья вряд ли позволит вам хотя бы ненадолго дать счастье жены и матери столь молодой женщине...
Друзей тоже немало смущала молодость невесты: ей 20, ему 45, но, зная упрямый и не управляемый в таких случаях никакими разумными доводами характер Федора Михайловича, они только безнадежно пожимали плечами.
— Она слишком молода для вас, вам скоро станет неинтересно с ней, — искренне убеждали его наиболее близкие ему люди.
— Он слишком стар для тебя, а одними только литературными восторгами семью не построишь... — пытались образумить ее родственники, друзья и поклонники.
Она же, по собственному ее признанию, просто была поражена, почти подавлена громадностью счастья и долго еще не могла в него поверить. Он, правда, громадности счастья не ощущал, а будто душа обрела пристанище, и стало ему как-то покойно, но так, словно это не он сам схватил судьбу за руку, а она наконец ухватила его за шиворот, повернула лицом к Анне Григорьевне, указала на нее перстом своим и шепнула: «Она, не сомневайся...» Хотя и себя выжидательной стороной отнюдь не считал, напротив:
— Знаешь, Аня, а ведь рассказанный тогда тебе роман — лучший из всего, что написано мною: он сразу же возымел успех и, главное, произвел желаемое впечатление, — не то шутил он, не то сам удивлялся. — Пойми, ведь я совсем не был уверен в успехе: а вдруг бы ты ответила, что любишь другого? Я потерял бы в тебе единственного человека, который так много сумел уже сказать моему сердцу.
Он водил ее по Сенной и ее окрестностям, местам, где бродил его Раскольников, показал дом процентщицы, провел по лестнице, по которой поднимался к ней студент, и даже камень, под который Раскольников спрятал награбленное. Три-четыре раза в неделю диктовал последнюю часть «Преступления и наказания». Вперемежку с шутками и смехом — отдых был необходим, потому что во время работы они оба порой доходили до такого нервного напряжения, что Анне Григорьевне казалось иной раз — еще несколько минут, и мозг, сердце не выдержат. И то: она чувствовала себя как бы соучастницей борьбы за будущее всего мира. Родион Раскольников возвещал ей новую истину: если Бога нет, то все позволено, потому что тогда я определяю, что есть добро и что зло. А я считаю, убеждал он Анну Григорьевну, что пожертвовать одной «тварью», процентщицей-старушонкой, во имя блага человечества — значит поступить по совести. Но потом появилась «вечная Сонечка», она отстаивала христианскую идею самопожертвования, отстаивала собственной жизнью: ради спасения больных родителей, ради маленькой сестренки отдала она в жертву тому же ненавистному ей, как и Раскольникову, миру свою честь, молодость, девичество, оставив в неприкосновенной чистоте только душу свою, потому что нельзя отнять ничью жизнь по совести; по совести можно только отдать свою жизнь.
Жертвенность Сонечки была по сердцу Анне Григорьевне, но и неприемлемая ею убийственная логика Раскольникова казалась неодолимой. В борении этих крайних идей, которыми одержимы двое, может быть, самых близких во всей вселенной, самых родных по духу людей, казалось Анне Григорьевне, принимают участие все жившие когда-либо на земле, живущие, и те, кому только предстоит жить и через десять, и сто, и тысячу лет... Потому что тут шла борьба двух духовных начал природы человеческой, обнаженных, доведенных до крайности катастрофической эпохой.
В конце концов побеждает в романе христианская правда Сони, правда, оказывающаяся у Федора Михайловича, к удивлению Анны Григорьевны, по существу, народной правдой: Соня-то звала Раскольникова покаяться не в церковь, а на людную площадь, и не перед иконой, но перед матерью-землей, перед народом русским. Но как-то так уж выходило у Федора Михайловича, что именно это-то преклонение перед народной правдой вместе с тем как раз оказывалось и преклонением перед правдой христианской. Эта-то народная правда, правда совести, и сокрушит изнутри кривду Раскольникова, которая притворилась правдой, и он поверил в нее. Крушение в Раскольникове лжепророка вместе с тем — чувствовала Анна Григорьевна — оборачивалось и победой в нем великой силы человеческой правды, а путь в каторгу — дорогой к его духовному воскресению.
И еще одна истина глубоко, на всю жизнь вкоренилась тогда в ее сердце: даже в великом страдании, страдании добровольного самопожертвования собой ради другого, есть свое счастье, своя великая радость; но нельзя построить счастье за счет страдания или гибели даже одного человека, пусть и последнего человека. Нельзя — ни для всего человечества, ни даже для себя лично. Если, конечно, ты Человек, а не наполеон...