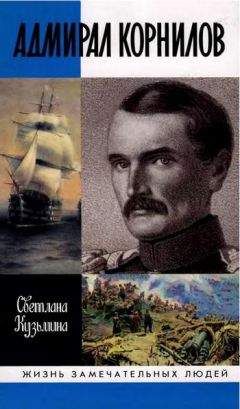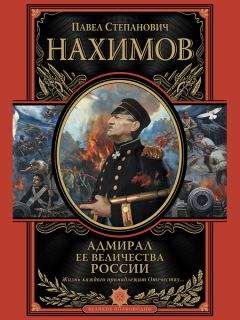Но защитники Севастополя не радовались: Корнилова не было, и горе подавляло всех своей тяжестью.
На следующий день французы не могли ещё оправиться. Не открывая огня, они продолжали усиленные работы против 4-го бастиона; мы заметили, что они устраивают восточнее Панютина хутора новую большую батарею; и полковник Тотлебен повернул на неё 42 орудия с 4-го и 5-го бастионов, редута и люнета. Англичане открыли огонь в 6 часов утра, и в то же время батареи Малахова кургана, 3-й и 4-й бастионы возобновили канонаду. На горе между Сарандинакиною и Лабораторного балками замечена новая батарея в 10 орудий, и против неё в помощь другим нашим укреплениям поставлены две новые 4-орудийные батареи, одна у 4-го бастиона, а другая у ластовых казарм; кроме того, на 3-м бастионе прибавилась батарея на 4 орудия и две 18-фунт. пушки заменены 68-фунт. В этот день английская батарея действовала заметно слабее».
…Участник севастопольской эпопеи написал:
«Первое бомбардирование кончилось поражением неприятельской артиллерии. Неприятель, поколебленный неудачей, не отважился на немедленный штурм, и решился обратиться к постепенной атаке крепости. Это решение затянуло осаду на 11 месяцев. Дух защитников поднялся. Таким образом, доблестный адмирал Корнилов, погибнув при первых же выстрелах неприятельских батарей, оставил свою душу начинавшейся обороне Севастополя, направив сильною рукою все вверенные средства, чтобы отстоять этот драгоценный для России пункт».
«Художник принял на себя служебную роль показа чужого подвига» [183]. Это сказано о Льве Николаевиче Толстом и его «Севастополе в декабре месяце».
Корнилов не раз предстаёт нам отлитым в бронзу и камень: и в памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде, и в белоснежном барельефе на здании Панорамы, и на вершине Малахова кургана в Севастополе; и в Музее Военно-морского флота в Петербурге, и на бульваре города Николаева.
Рассказ «Севастополь в декабре месяце» — тоже памятник Корнилову. Гениальная натура Толстого смогла чутко и точно угадать среди почти что былинных героев — защитников, которых только смерть могла заставить покинуть бастионы, того, кто был душой этой обороны, явившейся венцом его многотрудной деятельности, его подвигом.
Рассказ этот написан в апреле — тяжёлом для осаждённых: неприятель захватил ложементы перед 5-м бастионом; гарнизон был возмущён, ходили слухи о предательских замыслах главнокомандующего. Запись в дневнике Толстого этих дней: «Дух упадает ежедневно и мысль о возможности взятия Севастополя начинает проявляться во многом…» Но ведь эта фраза полностью противоречит финалу рассказа, проникнутому пафосом севастопольской несокрушимости, «невозможности взять Севастополь».
Приведу отрывок из произведения военного историка А. Ткачёва «Подпоручик Севастопольский» [184]: «Такое убеждение царило в Севастополе именно в декабре — и в декабре Толстой его разделял. Именно в декабре вся атмосфера осаждённого города была ещё заряжена и питаема волей и делами вице-адмирала Корнилова. «Не видать им нашего города, как своего левого уха! — восклицал в декабре защитник 5-го бастиона П.И.Лесли. — Было время, когда могли войти в него триумфальным маршем, — да пропустили; а теперь мы ещё постоим за себя!» Сохранившаяся почта севастопольцев свидетельствует, что такое настроение владело многими. В декабре по гарнизону Севастополя и по всему Крыму циркулировали невероятные, но очень ободрительные слухи. Рассказывали, будто бы однорукий Раглан от отчаяния повесился, а Канробер огорчился до горячки и тоже отдал Богу душу… Радовались, что флот союзников за невозможностью зимовать у крымских берегов без надёжных вместительных гаваней вот-вот уйдёт восвояси, а тогда осадная армия сама обратится в осаждённую… Ждали больших подкреплений войсками… Ждали морозов, которые поморят галло-бриттов, как тараканов… Ждали великих обозов с порохом… В декабре всем казалось, что события вот-вот примут тот же оборот, что и в 1812 году».
В начале декабря Толстой приезжал из-под Симферополя в Севастополь, и этот разлив гарнизонных надежд на перелом в войне подействовал и на него. Дневник захватил частицу той декабрьской — более неповторившейся — атмосферы: «5 декабря был в Севастополе, со взводом людей — за орудиями. Много нового. И всё новое утешительное».
В связи с корниловской темой становится прозрачна и понятна та настойчивость, с какой Толстой возвращается в рассказе к событиям 5 октября, того дня, когда севастопольцы блистательно выдержали первую усиленную бомбардировку города, дня, увенчавшего корниловскую деятельность славой военного подвига, о котором Толстой отозвался как о «самом блестящем славном подвиге не только русской, но и всемирной истории». В зале бывшего Морского собрания, обращённом в лазарет, «вы» беседуете со старым солдатом, потерявшим ногу, «как первая бандировка» была; матроска, задетая бомбой на бастионе, тоже совершила свой гражданский подвиг 5 октября. На 4-м бастионе «вы», разговорив морского офицера, услышите от него рассказ «про бомбардирование 5-го числа», про то, «как 5-го попала бомба в матросскую землянку и положила одиннадцать человек», а ещё про то, «как на его батарее только одно орудие могло действовать, и из всей прислуги осталось 8 человек, а всё-таки на другое утро 6-го он палил из всех орудий. И тут же, на 4-м бастионе, первые орудия которого были установлены ещё в марте 1854 года по распоряжению Корнилова, дух адмирала, уже давно витающий над строками «Севастополя в декабре», материализуется, наконец, в зримо возникающем образе героя-гражданина, «героя, достойного Древней Греции».
И когда Толстой цитирует из знаменитых корниловских речей в финале «Севастополя в декабре» один-единственный фрагмент: «Умрём, ребята, а не отдадим Севастополя»; и когда пишет: «Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский…» — то здесь имеется в виду не вся история севастопольской осады, а только самый первоначальный её период, ещё до бомбардирования 5 октября, когда севастопольцы во главе с Корниловым не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти, не за город, а за родину. А если брать смысловую сторону финала «Севастополя в декабре» целиком, то она представляет собой славу гражданским доблестям севастопольцев, из которых, вопреки невозможности, возникла вся оборона города с её вечной славой и великими трагедиями.
Теперь, когда особая роль и точный смысл корниловской фигуры в толстовских глазах нами установлен, уясняется как нельзя лучше и смысл вставки в начало рассказа «вашего» переезда через бухту на ялике с отставным матросом и Мишкой. Разговор гребцов понадобился автору не столько для того, чтобы обратить «ваше» внимание на новую артиллерийскую батарею противника, сколько для открытия в рассказе корниловской темы, идущей крещендо и достигающей апофеоза в финале.