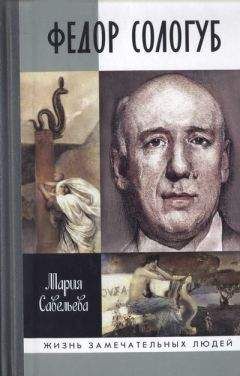— Осторожно, не торопитесь! — донеслись до слуха перепуганной девушки тихие, едва слышные слова. Ее положили на то место, где были ввинчены винты, головою к Касаткиной. Клеманс и Николай отняли ее руки от тела и начали привязывать каждую, в кисти, к особой паре винтов тонкими, режущими тело веревками. В то же время Осип связывал такими же острыми веревками ее ноги. Ноги были плотно привязаны одна к другой; веревки врезывалися в нежное тело, которое синело, краснело и багровело. Наташа застонала. Потом прикрепили их к винтам, и Осип с Федором, приподняв до спины рубаху, перешли к другой паре винтов, к которым ноги были привязаны выше колен, опять перевязали этими ужасными веревками. Из мягкого белого тела брызнула кровь, и капли ее покатились по круглым мускулам ног. Наташа опять застонала от боли. Она была плотно привязана к полу и не могла пошевелиться без того, чтобы веревки еще больше не врезывались в нежное тело. Оставалась еще пара винтов под мышками, к одному из которых был прикреплен ремень. Николай перекинул ремень через спину Наташи и плотно притянул ее грудь к полу. Высокие, вполне определившиеся груди, плотно прижатые к полу, невыносимо страдали какою-то тупою, ноющею болью. Сердце колотилось сильно и медленно в сжатой груди перепуганной девушки, и с каждым его ударом словно молотки ударяли по ее вискам. Она чувствовала, как билась кровь в жилах ее покрасневшей шеи; тупая боль слышалась в мускулах шеи, которые, болезненно напряженные, заставляли девушку низко пригибать свое лицо к полу. Наташа лежала, не поднимая головы, и широко раскрытыми глазами смотрела на пол, но, конечно, ничего не видела. Лицо ее лежало на этом полу, опираясь на него подбородком и слегка прижатым кончиком носа. В комнате было тихо. Вдруг она услышала свист в воздухе и в то же время почувствовала жгучую боль, которая заставила ее вскрикнуть. Опять послышался тот же свист, еще и еще, с обеих сторон на ее тело торопливо падали удары розог, длинных и гибких, и каждый удар заставлял ее вскрикивать все сильнее. Эти свистящие лозы были в руках Осипа и Николая. Осип стоял над Наташею с своею обычною сумрачною физиономией. Николай хлестал ее розгами с каким-то сладострастным наслаждением, с пошлою улыбочкою на своем идиотски тупом низколобом лице. Оба они сначала заторопились и били неровно и скоро, но не очень сильно. Касаткиной не понравилась эта торопливость и неровность, и она остановила их.
— Бейте реже, — очень тихо, почти шепотом, сказала она. — Но как можно сильнее.
И удары, медленные и спокойные, сделались еще нестерпимее и больнее. Девушка кричала громче и громче, пробовала метаться под своими узами и заплетающимся языком умоляла о прощении. Но эта женщина была неумолима. Розги взвизгивали и падали, и падали на окровавленное тело. И с каждым ударом это изнеженное тело покрывалось новою кровавою язвою, синело и багровело. Кровь текла из длинных, неглубоких, но мучительно раздраж<авших> нервы ран, текла по нежному телу, лилась на пол и кровенила рубашку. Брызги горячей молодой крови летели во все стороны, попадали на палачей, на стены, на платье и на лицо княгини. А она сидела на своем кресле, наклонившись вперед и ухватив руками за обручки, и жадными торжествующими глазами смотрела на страдающее, окровавленное тело своей соперницы. Когда брызги крови попали на ее лицо, она откинулась на спинку, обтиралась платком, с видимым наслаждением слушая страдальческие крики и стоны. А эти стоны становились все тише и тише и наконец начали замирать.
Это медленное и жестокое истязание продолжалось долго, так долго, что у палачей устали руки от этих сильных и равномерных взмахов. И несколько раз приходилось им переменять изломанные розги. Более 200 ударов опустилось на тело Наташи. Она уже не чувствовала прежней боли; какой-то жар разливался по ее жилам, и словно жег ее, и сушил ее с трудом двигающийся язык и бледнеющие губы.
— Довольно, перестаньте, — сказала княгиня.
Слуги остановились.
— Принесите воды.
Федор побежал за водою. Он был бледен, руки его тряслись, и он проливал воду на пол из полного стакана, возвратившись в комнату с холодною водою. В комнате было тихо, княгиня молчала. Осип и Николай возились с розгами; Клеманс стоял возле кресла помещицы, равнодушно глядя на истерзанное тело наказанной, которая лежала неподвижно и по временам, слегка вздрагивая под веревками, слабо стонала.
— Подай ей воду, — Юлия Константиновна головою показала Федору на Наташу. Потом, обращаясь к девушке, она сказала: — Выпей, мой друг, воды, и отдохни немножко. Соберись с новыми силами.
Федор подошел к Наташе и опустился перед нею на пол. Наташа подняла голову и выпила несколько глотков воды из стакана, который поддерживал перед ее ртом дрожащими руками Федор. Холодная вода освежила ее засохший язык и запекшиеся губы. Голова ее прояснилась немного, и ее большие испуганные глаза поймали остановившийся на ней с неподдельным участием и сожалением взор молодого лакея. Но вместе с тем вернулося к ней и сознание жестокой боли; казалося, с новою силою началися страдания окровавленного тела, от ее судорожных бессознательных движений во время сечения веревки еще глубже врезались в нежное тело ноги, и кровь медленно сочилась из-под них, стекая к ее коленям. Она снова громко застонала.
Вся эта тяжелая сцена была торжеством для Касаткиной, которая радостно слушала эти стоны. Они были для нее приятнее райской музыки. Чтобы продлить свое наслаждение, она приостановила наказание, она знала, что еще несколько ударов сразу — и молодая девушка была бы мертва. Теперь она опять очнулась и лежала перед нею, полумертвая, страшно страдающая, но еще сознающая. И княгиня обратилась к ней с ласковою дружескою речью:
— Ты видишь, голубушка, твое наказание еще не кончено! Отдохни и соберись с новыми силами. — Княгиня замолчала. — И не проси меня о прощении, — быстро заговорила она, когда девушка хотела что-то сказать. — Не могу я, Наташа, тебя простить. Знаю, что тебе, сердечная, очень больно, — продолжала княгиня рассудительным тоном, как бы уговаривая Наташу. — Понимаю, голубушка, что твоему девичьему телу невыносимо наказание: ведь ты у меня росла, как барышня. Понимаю, что ты, как скромная девушка, стыдишься, может быть, при мужчинах обнажения тела. Знаю, что для тебя все это вдвойне мучительно, но что же делать? Не вини меня, мой друг; ты сама виновата. Я тебя берегла и любила, как родную дочь, а теперь душа моя требует мщения и наслаждения им: я не вольна совладать с собою. Ты оскорбила меня, ты заставила меня страдать — ну, и что же вышло? Твой милый, дорогой твой Миша не заступится за тебя; вот ты лежишь передо мною беззащитная, и твой Сосвин не придет спасать тебя, хотя ты и расточала ему поцелуи и готова была отдать ему все. А вот мои слуги: я не развратничала с ними, не целовала их, а они наказывают тебя за то, что ты меня оскорбила, и ты беззащитна, потому что ты только моя крепостная девка. Ты это забыла. Я тебе напомню: выше лба глаза не бывают, по вашей русской пословице. Не сетуй же на меня!