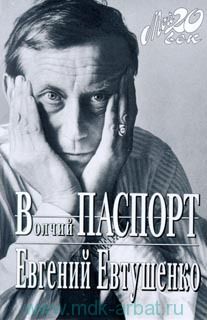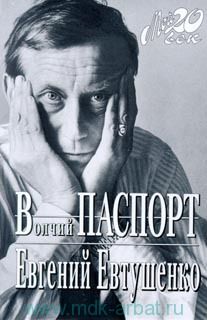Как человек, хорошо его знавший, я могу ручаться, что Галич никогда не планировал своего отъезда на Запад, что его толкнуло на это только полное отчаяние. Практически он был изгнан. Галич умер в Париже от короткого замыкания в магнитофонной системе, когда он прослушивал свои записи.
Чтобы понять причину трагедии его отъезда, я лишь воскрешу сохранившийся у меня в памяти эпизод, достаточно выразительно рисующий атмосферу тех лет. Одному сравнительно молодому, считавшемуся тогда прогрессивным критику Феликсу Кузнецову предложили руководящий пост в Московской писательской организации. Он приехал ко мне на дачу, чтобы уговорить меня сотрудничать с ним в будущем руководстве. Помявшись, добавил: «Только вот что, Женя, мне надо твердо знать, будешь ли ты голосовать за исключение диссидентов?» — «Каких именно? — спросил я. — Ведь все зависит от каждого конкретного случая». — «Ну, какие будут», — опуская глаза, сказал он. «Но ведь кто-то, может быть, ни в чем не виноват…» — возразил я. «Есть люди, которые лучше нас с тобой знают, кто виноват, кто нет», — торопливо ответил этот современный Клим Самгин (а может, мальчика-то и не было?). Таким образом был исключен и Галич, и некоторые другие, вовсе не заслуживавшие этого люди.
Галич с печальной психологической точностью описал, как в этой продаже нравственности принимали участие не только «реакционеры», но и бывшие «прогрессисты».
Уходят, уходят, уходят
друзья.
Одни — в никуда, а другие —
в князья…
…Есть — уходят на последней
странице.
Но которые на первой —
те чаше.
Году в 1963-м Галич пригласил меня к себе домой и спел примерно двадцать песен в очень узкой компании. Песни меня поразили пронзительной гражданской афористичностью. «Но поскольку молчание золото, то и мы безусловно старатели»; «Ах, как шаг мы печатали браво, как легко мы прощали долги, позабыв, что движенье направо начинается с левой ноги».
Начинавшейся тогда попытке отката с позиций безоговорочного осуждения культа личности на позиции оговорочные, оправдывающие Галич противопоставил собственную безоговорочность. Уже в тот вечер это было совершенно ясно.
Но — достаточно о политике. Все гражданское звучание песен Галича стоило бы гораздо меньше, если бы слова его песен не были написаны так крепко и подчас так элегантно по форме. Театральный опыт Галича помог ему создать серию сатирических персонажей, от имени которых были написаны песни. В этом сатирическом цикле Галич был прямым учителем Высоцкого:
«Облака плывут, облака. Не спеша плывут, как в кино. А я цыпленка ем табака, я коньячку принял пол кило». «И рубают финики лопари, а в Сахаре снега невпроворот. Это гады-физики на пари раскрутили шарик наоборот».
Рифмовка Галича — свежая, четкая. Серия реквиемов, посвященных поэтам, написана в перевоплотительном стиле, воскрешающем их эпоху, а иногда даже почерк. Обо всем этом еще напишут исследователи. Один из его реквиемов — песня «Ошибка» — меня потрясал и потрясает до сих пор пронзительной гармонией слов, исполнения и сразу запоминающейся мелодией. Это, пожалуй, моя самая. любимая песня Галича.
Приведу только два эпизода из многих наших встреч. Первый: у меня дома в гостях был выдающийся французский шансонье бельгийского происхождения Жак Брель. Я пригласил Булата Окуджаву и Александра Галича, и все втроем они устроили импровизированный концерт друг для друга.
Но вот что поразительно: ни один из них не пел собственных песен. Галич пел старинные романсы, Окуджава — вагонные песни, а Жак Брель — народные фламандские. Сейчас, конечно, я кусаю локти, что не записал эту ночь на магнитофон, — это был уникальный концерт, когда три выдающихся поэта-певца показали друг другу свои корни.
Второй эпизод: близкая мне женщина после тяжелой операции потеряла много крови, и, как сказал мне ее врач, надежд на спасение было мало. Когда я навестил ее, она попросила, чтобы я привез ей магнитофон и записи песен Галича, которые она очень любила. Я рассказал об этой просьбе Александру Аркадьевичу. Он, ни слова не говоря, положил гитару в чехол, поехал в больницу сам и вместо магнитофона пел для этой женщины примерно час. После этого случилось чудо — она выжила.
«Заходи, у меня есть Джонджоли…»
Даже при плохой слышимости по телефону мне не нужно было догадываться, кто мог произнести это магическое слово, бывшее сорок лет тому назад кодом нашей дружбы.
Джонджоли — это грузинская трава с крошечными бубенчиками на тонких стеблях, которую маринуют в стеклянных банках, где она становится похожа на водоросли цвета хаки. Вкус у нее горьковато-кислый, и нет лучше закуски под белое сухое вино, чем джонджоли с малосольным сулугуни.
Когда-то в мои юношеские годы эту траву ещё подавали в «Арагви», но потом она исчезла, и, может быть, единственным человеком в Москве, у которого водилось присылаемое ему грузинскими родственниками джонджоли, был Булат Окуджава, всегда приглашавший меня на этот, понятный очень немногим, маленький пир.
У нас было о чем вспомнить за джонджоли.
Шестидесятые годы были гадами вэаимосозоания поэтов и читателей. Мы заново создавали читателей поэзии, высказывая вслух то, что думали они, а они создавали нас своей поддержкой, хотя порой она им дорого стоила. За распространение пленок с песнями Окуджавы или моей самиздатовской «Автобиографии» исключали из комсомола, из университета, увольняли с работы, налагали взыскания в армии. Мы были первыми додиссидентскими диссидентами в то время, когда Сахаров был привилегированным засекреченным специалистом, Солженицын — никому не известным учителем, бывшим зэком, а Бродский — школьником.
Общественная сцена была пуста, за исключением замаячивших на ней нескольких худеньких фигурок поэтов нашего поколения. Мы, наверное, не меньше чем раз сто выступали вместе с Булатом. Окуджаву называли «пошляком с гитарой», меня — «певцом грязных простыней». Вот как высказывался о нашем поколении первый секретарь ЦК ВЛКСМ С. Павлов: «Во всяком половодье есть пена. Она присутствует и в молодой литературе. Особенно в творчестве Евтушенко, Вознесенского, Окуджавы… Как метко сказал Л. Соболев, “на переднем крае такие устанавливают вместо пулеметного гнезда ресторанный столик для кокетливой беседы за стаканом коктейля”».
Другой секретарь ЦК ВЛКСМ — интеллигентный красавец Лен Карпинский — будущий номенклатурный диссидент, — признаваясь, что он сам любит послушать песни Окуджавы, тем не менее считал, что они опасны для «неподготовленной» молодежи.
Но чем больше нападок было в адрес Булата, тем больше было и слушателей. Сначала — из любопытства, а потом уже — из любви.
Многие из нас были идеалистами, впоследствии обманутыми историей. Это трагично, но, по-моему, все-таки лучше, чем изначально быть беспросветным циником и не иметь за душой никакой надежды — даже разбитой. Сегодняшней Белле Ахмадулиной вряд ли хочется, чтобы кто-нибудь помнил ее как романтическую комсомолочку-старосту курса, но таковой она была. Я до сих пор люблю раннюю песню Булата о комсомольской богине. Но даже эта романтическая чистота вызывала раздражение у давным-давно насквозь проциниченной номенклатуры, благословлявшей романтику лишь в целинно-новостроечном, пахмутовско-кобзоновском варианте.
В 1962 году Булат, Роберт, я и Станислав Куняев собирались ехать с женами в туристскую поездку в Швецию, но нас вызвал оргсекретарь Московской писательской организации — бывший генерал КГБ Ильин и сообщил, что Булата где-то «наверху» «вычеркнули» из списка. Мы единодушно, и Куняев в том числе, заявили, что без Булата никуда не поедем. Только в результате нашего прямого шантажа возможным скандалом Булата первый раз выпустили за границу. Но вот что поразительно — он держал себя там с таким спокойным достоинством и с таким сдержанным ироничным любопытством, что порой казалось — это мы за границей первый раз, а он там — частый, слегка скучающий гость.
Все это выпускательство-невыпускательство за границу, цензурное унизительное надзирательство, диссидентские процессы, наконец, вторжение брежневских танков в Чехословакию разрушали наш романтизм. Будучи в Кишиневе на выступлении, Булат резко высказался против оккупации Праги. На него немедленно донесли, отменили концерты, опять закрыли перед ним границу.
Песни Окуджавы, поначалу такие грустно-озорные, становились все горше, все жестче.
Окуджава был первый в нашей стране поэт, взявший в руки гитару, но его гитара была беременна будущими песнями Галича, Высоцкого и многих других «бардов», при несвободе печати все-таки отвоевавших право на «магнитофонную гласность». Гражданский протест, не меньший чем в громовых раскатах Тринадцатой симфонии Шостаковича, звучал и в гитарных аккордах.