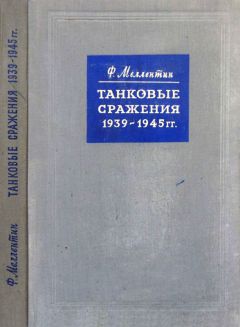Внезапно появлялись лица, обветренные гримасы над коричневой курткой. Там был Бидерманн, и старик Май, и служитель лазарета, и уборщик карцера, и там был, кто это был там еще, да, правильно, тот парень, который предал меня, когда я передал Эди табак, и как звали ту свинью, которая выдала мои приготовления к побегу, чтобы получить помилование? Все прошло. Ничего не было настоящим, ничего не удерживалось. Ночи под арестом, время, когда я в лазарете ухаживал за Эди, одна, две, три, четыре разные трубки, которые я достал себе и которые все были найдены во время проверки, а пятая нет, и теперь я прятал ее среди книг. Там в книгах лежала пачка писем, я ждал каждого письма с изматывающим усердием, и каждое оставалось, в конце концов, все же, разочарованием, и среди них лежало также одно, то одно, которое сообщило мне, каким был конец тех, кто был вне закона. Где же это я недавно читал об отверженных? Правильно, в исландских сагах. Там были отверженные мужи, которые не хотели смиряться с порядками своих родов, и поэтому их изгоняли из области, где действовал порядок, они могли сохранить свое оружие, но каждый, кто был сильнее их, мог их убить. Но, это всегда были самые воинственные мужчины, они не хотели смиряться с дисциплиной укрощения и поэтому попадали в опалу, и постепенно стало так, что попавшие в опалу превращались в изгнанников, что род разрушался, так как он лишался самых способных к борьбе сил, и из лесов вырывались объявленные вне закона и оставались, все же, хозяевами в стране. Тогда еще не было тюрем — что это за мальчишеские сны. Часы безумного отчаяния; разве я не держал уже в руке осколки стекла, тогда, после первой рухнувшей попытки побега? Почему я, собственно, не сделал это, короткий разрез артерии — почему, почему?
И почему должна была залаять Зента, сторожевая собака, которую я всегда по ночам слышал, как она шуршит перед моим окном в кустах, которую я кормил кусками мяса из воскресной еды, чтобы приучить ее ко мне, почему залаяла Зента, когда я уже стоял во дворе со скальным крюком в руке? На Рождество я всегда получал посещение. Как же я боялся каждый раз того мгновения, когда надзиратель вызывал меня в комнату посещений, и как я целый год тосковал всегда только по этому моменту. Безумная боль, когда я еще раз поворачивался и еще раз махал, и потом я видел длинный ход вниз, до тех пор, пока железная решетка не закрывалась снова, и внутренняя дверь защелкивалась, а потом внешняя, и я шел, шатаясь, назад в камеру и бросался к столу как проклятый. «Вставай, проклятьем заклейменный», — так всегда пел Эди, вечерами, когда из гнетущей тишины доносился далекий крик, когда кого-то били в одиночной камере. И однажды Эди запел эту песню во время Рождества на месте хорала и был отправлен под арест. Рождество. Как я сердился, когда отдельные арестанты начинали выть, как меня возмущали гирлянды и свечи в тюремной церкви и пестрый транспарант «Слава Всевышнему на небесах, слава миру Его на земле, людям Его благоволение».
«Его благоволение», всегда эти нежные намеки, как я ненавидел их, как я всегда сердился на них. Священник, который однажды с кафедры сказал, что, в принципе, вина заключенных незначительна, плохой пример это как раз, когда дети видят, как мать занимается развратом со своим ночлежником… И я затем потребовал от директора, чтобы он заставил священника с кафедры объяснить, что он, во всяком случае, не имел в виду мою мать. Неподвижно перекошенное лицо священника, когда он пришел потом ко мне просить прощения и говорил, что действительно не имел в виду ничего подобного! Тысяча картин, но ни одна из них не была в достаточной мере наполнена страстью, это была моя жизнь, четыре года. И это все перестанет быть ею, когда я буду свободен, свободен… Скоро, нереально скоро.
Теперь я стоял, подгоняемый безумным беспокойством, полдня у двери и внимательно слушал, не прозвучит ли мое имя, не приходил ли кто-то, чтобы забрать меня. Я считал день за днем, ночь за ночью. Теперь прошение могло быть у министра юстиции, потом оно дошло, вероятно, до референта, затем направлено к рейхспрезиденту, затем к верховному имперскому прокурору… Директор посетил меня, когда что-то начало двигаться. Он сказал, что на конференции в Берлине, в которой он принимал участие, он разговаривал с ответственным господином в министерстве о прошении. Я вполне могу надеяться. В другой раз он сказал, что я уже должен готовиться, помилование могло прийти в любой день. Он предписал починить и погладить мой костюм, и комендант пришел и взял меня с собой в каптерку, и я разложил свои вещи, чтобы запах порошка от моли быстрее улетучился. И потом однажды мне сказали, что я должен немедленно прибыть к директору.
Я бежал так быстро, что надзиратель едва мог поспевать. Один заключенный кричал мне: — Поздравляю; тюремщики смеялись, солнце озаряло коридоры. Директор разрешил мне войти. Он не предложил мне стул. Он листал какой-то документ и был очень бледным. Он посмотрел на меня снизу вверх, откашлялся и произнес: — Поступил новый ордер на ваш арест. Вас обвиняют в покушении на убийство старшего лейтенанта Вайгельта. Завтра вас перевезут в земельный суд, в компетенции которого находится это дело.
Постепенно светает. Я, дрожа от холода, отхожу от окна. Ночь все-таки закончилась. В коридоре звучит шум. Осторожно ключ входит в замочную скважину, дверь раскрывается, вот это мгновение. Начальник охраны шепчет — Доброе утро. Я улыбаюсь и говорю: — Как будто меня теперь ведут на казнь. Начальник охраны качает головой, он бормочет: — Ну, ну, это не настолько плохо. Я медленно беру свою маленькую черную шапку и выхожу за начальником охраны. Такими коридоры я не видел еще никогда, абсолютно мертвые, в бледном сером цвете утра. Мы идем на кончиках пальцев. Закутанная фигура двигается мимо, дежурный ночной надзиратель. В прихожей тюремной администрации горит только один газовый рожок. Начальник охраны говорит вполголоса: — Господин директор желает вам удачи. При этом он не смотрит на меня. Он открывает дверь в канцелярию. Там стоит сопровождающий охранник. Я быстро бросаю взгляд на документ о перевозке, он красный, значит, меня повезут в наручниках. На мгновение все во мне хочет встать на дыбы, но потом я вытягиваю перед собой обе руки. Наручники защелкиваются, запястья тесно втиснуты в кольца. Но потом я с трудом подношу руки ко рту и зубами срываю с себя зеленые полосы. Начальник охраны успокаивающе поднимает руку. Мы поворачиваемся, чтобы идти. Начальник охраны протягивает правую руку, но потом смущенно смотрит на наручники, и снова опускает ее. Дверь закрывается, затем вторая, третья. Мы стоим перед главными воротами, ночная стража открывает, я выхожу на улицу. Я поворачиваюсь еще раз, смотрю вверх на серый фасад тюрьмы. Над аркой ворот видны высеченные на камне слова: