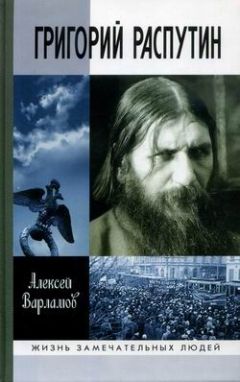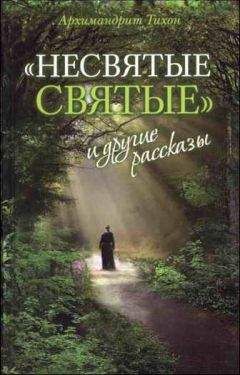Народ в лице Распутина брал реванш, причем народ отнюдь не в славянофильском, а скорее в бунинском понимании, и в этом смысле Гумилёв был недалек от истины, когда писал своего «Мужика»:
В чащах, в болотах огромных,
У оловянной реки,
В срубах мохнатых и темных
Странные есть мужики.
Выйдет такой в бездорожье,
Где разбежался ковыль,
Слушает крики Стрибожьи,
Чуя старинную быль.
С остановившимся взглядом
Здесь проходил печенег…
Сыростью пахнет и гадом
Возле мелеющих рек.
Вот уже он и с котомкой,
Путь оглашая лесной
Песней протяжной, негромкой,
Но озорной, озорной.
Путь этот — светы и мраки,
Посвист разбойный в полях,
Ссоры, кровавые драки
В страшных, как сны, кабаках.
В гордую нашу столицу
Входит он — Боже, спаси! —
Обворожает Царицу
Необозримой Руси.
Взглядом, улыбкою детской,
Речью такой озорной,
И на груди молодецкой
Крест просиял золотой.
Как не погнулись — о горе! —
Как не покинули мест
Крест на Казанском соборе
И на Исакии крест?
«Что ж, православные, жгите
Труп мой на темном мосту,
Пепел по ветру пустите…
Кто защитит сироту?
В диком краю и убогом
Много таких мужиков.
Слышен по вашим дорогам
Радостный гул их шагов».
Еще более эмоционально и интимно выразил свое отношение к Распутину другой поэт — Николай Клюев:
Это я плясал перед царским троном
В крылатой поддевке и злых сапогах.
Это я зловещей совою влетел в Романовский дом,
Чтоб связать возмездье с судьбою
Неразрывным красным узлом,
Чтоб метлою пурги сибирской
Замести истории след…
Зырянин с душою нумидийской
Я — родной мужицкий поэт.
«Четвертый Рим»
В этих стихах важна точка отсчета: для Гумилёва Распутин — посторонняя враждебная сила, Клюев же себя с этой могучей силой отождествляет, но в любом случае Распутин — это именно сила, воля, стихия, подчиняющая себе ход исторических событий. Тут есть что-то от пушкинского Пугачева в «Капитанской дочке». Распутин выступает не только как исторический персонаж, но и как явление природы. Он становился всеобъемлющ, вспомним еще раз блоковское «Распутин — всюду», и именно в этом заключалась главная загадка сибирского мужика, и даже не его самого, а тех чувств, которые он в российском обществе вызывал или, вернее, каковыми общество его наделяло.
Марина Цветаева позднее писала о шестой строфе гумилёвского стихотворения:
«Вот, в двух словах, в четырех строках, все о Распутине, Царице, всей той туче. Что в этом четверостишии? Любовь? Нет. Ненависть? Нет. Суд? Нет. Оправдание? Нет. Судьба. Шаг судьбы.
Вчитывайтесь, вчитывайтесь внимательно. Здесь каждое слово на вес — крови.
В гордую нашу столицу (две славных, одна — гордая: не Петербург встать не может) входит он (пешая и лешая судьба России!) — Боже спаси! — (знает не спасет!), обворожает Царицу (не обвораживает, а именно по-деревенски: обворожает!) необозримой России — не знаю как других, меня это "необозримой" (со всеми звенящими в ней зорями) пронзает — ножом.
Еще одно заглавная буква Царицы. Не раболепство, нет! (писать другого с большой еще не значит быть маленьким), ибо вызвана величием страны, здесь страна дарует титул, заглавное Ц — силой вещей и верст. Четыре строки — и все дано: и чара, и кара. <…>
А если есть в стихах судьба — так именно в этих, чара — так именно в этих, История <…> — так именно в этих».
Так, в сознании самых проницательных и глубоких своих современников сибирский крестьянин сделался неотъемлемой частью петербургского и — шире — всего российского ландшафта, приметой эпохи, ее камертоном, символом, точкой отсчета и знаком исторической судьбы России. Без него эту эпоху нельзя было понять и вынести его из нее также невозможно, как невозможно свести распутинский миф к газетным статьям, которые раздражали Царскую Семью.
О нем писали уже при жизни романы, ставили пьесы, о нем спорили и размышляли, и этот интерес — интерес не только скандальный, но и более серьезный, глубокий надолго Распутина пережил.
Его уже давно не было в живых, а Ахматова описывала уличный Петербург начала XX века в набросках к «Поэме без героя» (к которой приступила в конце 1940-го): «Слепцы идут у Христа славить. Нищие. Распутин. Пожарный и толстая кухарка. Проститутка и развратник по Блоку». А еще в двадцатые годы, по свидетельству ее биографа Павла Лукницкого, начала писать поэму, где в качестве персонажей «и Распутин, и Вырубова — все были».
Однако поэма не была написана по причине того, что похожий сюжет использовал Алексей Толстой в пьесе «Заговор императрицы». Впрочем, «красный граф» перебежал дорожку не только Анне Андреевне.
«Просьба: …нужен весь материал для исторической драмы — все, что касается Николая и Распутина… до зарезу!.. Лелею мысль создать грандиозную драму… Уже готовы некоторые наброски и планы. Мысль меня увлекает безумно…» — обращался в начале 1920-х к своим родственникам Михаил Булгаков. И хотя грандиозную драму автор «Белой гвардии» не написал, Распутин упоминается в рассказе «№ 13. Дом Эльпит-Рабкоммуна»:
«Однажды, например, в десять вечера, стосильная машина, грянув веселый мажорный сигнал, стала у первого парадного. Два сыщика, словно тени, выскочили из земли и метнулись в тень, а один прошмыгнул в черные ворота, а там по скользким ступеням в дворницкий подвал. Открылась дверца лакированной каретки, и, закутанный в шубу, высадился дорогой гость.
В квартире № 3 генерала от кавалерии де-Баррейн он до трех гостил.
До трех, припав к подножию серой кариатиды, истомленный волчьей жизнью, бодрствовал шпион. Другой до трех на полутемном марше лестницы курил, слушая приглушенный коврами то звон венгерской рапсодии, capriccioso, — то цыганские буйные взрывы:
Сегодня пьем! Завтра пьем!
Пьем мы всю неде-е-лю — эх!
Раз… еще раз…
До трех сидел третий на ситцево-лоскутной дряни в конуре старшего дворника. И конусы резкого белого света до трех горели на полукруге. И из этажа в этаж по невидимому телефону бежал шепчущий горделивый слух: Распутин здесь. Распутин. Смуглый обладатель сейфа, торговец живым товаром, Борис Самойлович Христи, гениальнейший из всех московских управляющих, после ночи у де-Баррейн стал как будто еще загадочнее, еще надменнее.