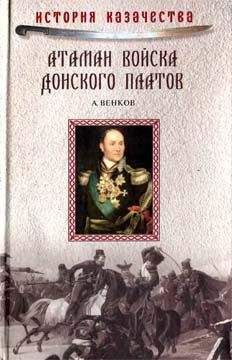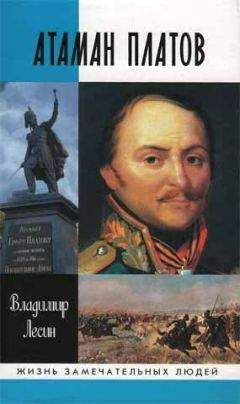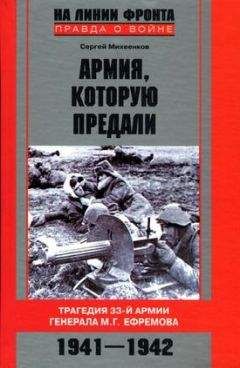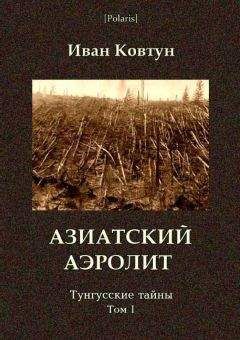В мае 1814 года Император Александр отбыл в Лондон и взял с собой Платова.
Поездка в Лондон, недолгая, недели на три, стала настоящим триумфом. Встретили царя и атамана в Дувре с пушечной пальбой, повезли в Лондон сквозь сплошные триумфальные арки и засыпали живыми цветами. Три дня Лондон был иллюминирован. Награды, почести, аплодисменты, портреты…
Именем Платова назвали военный корабль. Оксфордский университет присвоил атаману звание почетного доктора права. Когда такой же диплом преподнесли Блюхеру, тот, не разобравшись, сказал:
— Если уж хотите, чтоб я был доктором, то произведите моего начальника штаба хотя бы в аптекари.
Платов помнил про свой графский титул и таких глупостей не говорил.
Театры, парады, почетные сабли… Сказал как-то Матвей Иванович:
— Меня свои так не награждали. В чем дело? Или народ такой здесь уважительный?
Алексей Кисляков, бывший при Платове неотлучно, смотрел в корень:
— А ты знаешь, Матвей Иванович, какие англичане убытки при Бонапарте несли? Торговлю-то он им перекрыл. Разорил вконец… — а про себя добавил: «Как мы с тобой Войско Донское[161]».
— Какое «разорил»?.. Ты погляди, как живут!
— Да, — вздыхало платовское окружение. — Нам так не жить…
Из Англии царь и Платов уезжали порознь. Закружилась от чествований атаманская голова, и, не подумав, нашел он себе среди местных женщин «компаньонку». Гулять так гулять! На пальцах объяснил ей: «Поехали со мной в Россию, на Дон». Она, поулыбавшись, согласилась.
Государева свита забеспокоилась, как бы царю не было какой компрометации, но Платов ничего не заметил.
Познал он всю сладость славы, стал задумываться о памяти потомков:
— Смирной! Я тебе буду рассказывать, а ты пиши. Значит так: перед рождением моим были разные чудесные знамения…
Записывал Смирный, как считал нужным. Что-то отмечал, о чем-то умалчивал. Но настрой платовский уловил точно: мол, до конца дней своих с особенным удовольствием вспоминал Матвей Иванович Платов о времени, проведенном в Англии, и охотно признавался, что оно было самое блистательнейшее и самое приятнейшее в его жизни.
Ладно. Погуляли, пора и ни грешную землю возвращаться, к войсковым делам, которых за всю жизнь не переделать.
— Как там у нас, на тихом Дону?
— Да все также, Ваше Сиятельство…
— Это хорошо. А в полках?
— Да оно и в полках…
— Наскучали, небось?
— Наскучали, Матвей Иванович. Уморились. Ждут — не дождутся, когда на Дон вертаться.
— Ишь ты! «На Дон…» Это, брат, скажу я тебе… А служить кто же будет? Один Платов?
Из главной квартиры отданы были наконец Матвеем Ивановичем распоряжения полкам, — кому домой, а кому на кордон.
Страшные потери понесла страна в войну. Казачество разделило эту участь — цвет его лег от Москвы до Парижа. Отгремели победные клики, стали возвращаться полки в любезное отечество. Уходили трое — приехал один, другого раненого привезли, а про третьего спрашивают:
— А наш иде же?
— Раненый, — отвечают.
— Дюже?
— Дюже. И головы не нашли…
Запели казаки, сокрушаясь:
Ой, ты, батюшка наш, славный Тихий Дон,
Ты кормилец наш, Дон Иванович.
Как, бывало, ты все быстер бежишь,
Ты быстер бежишь, все чистехонек,
А теперь ты, Дон, все мутен течешь,
Помутился весь сверху донизу.
Отвечал Тихий Дон, жалился-кручинился:
Да уж как-то мне все мутну не быть,
Распустил я своих ясных соколов,
Ясных соколов — донских казаков.
Усталость навалилась на Войско Донское, как и на всю страну, В срок выставлялись наряды на пограничье, и другую службу несли донцы исправно, но долго еще было похоже казачество на запаленную лошадь, которая может идти только шагом.
Кто уцелел, с французской кампании денег понавезли саквами (седельными сумами). Были рядовые, что по шестьдесят пудов серебра на церкви жаловали…
— Слыхала, кума? Кисляковы с Хранции бричку денег привезли.
— Не медью ли? — сомневалась кума.
Платов из главной квартиры зорко следил, что на родине творится. Курьеры беспрестанно мотались на Дон и обратно. Варшава — удобное место: и дела войсковые на виду, и спрос за эти набившие оскомину дела не с него, служивого, а с Войсковой Канцелярии да с наказного атамана.
Как закончилась война, русские власти взялись за старое. Посыпались на Войсковую Канцелярию циркуляры от разных ведомств, дабы оная Канцелярия следила, чтоб беглецов на Дону не принимали, иначе взыскание ляжет на самое Канцелярию…
Канцелярия отписывалась, клялась и божилась и принимала экстренные меры.
Матвея Ивановича это вроде и не касалось. Из Варшавы доносил он царю о неподдельной радости донцов, вернувшихся к отчим очагам, и сам, соскучившись по царской ласке, просился, ссылаясь на слабость здоровья, в Петербург — подлечиться.
Пока же, вспоминая отошедшие в историю подвиги, обратился духом и мыслею к непревзойденному русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову, писал племяннику его, князю Алексею Ивановичу Горчакову, управляющему военным министерством, и расспрашивал, что говорил когда-либо великий военачальник о донцах и как о них отзывался. В ответах князя Алексея Ивановича выискивал хвалебные суворовские слова о донских казаках, а найдя, указывал Смирному брать их на заметку. В общем, как писал потом Смирный, всеми средствами пользовался, чтобы возвышать славу Войска.
Но ни из Петербурга, от Императрицы Марии Федоровны, и ни из Вены, от самого Государя, не было призыва или хотя бы более или менее ясного ответа.
— Что такое? В чем дело? — недоумевал Платов.
— А чего ж ты хочешь? — подсказал ему кто-то. — Ты какую-то девку из Англии привез. Живешь с ней не венчанный, таскаешь за собой всюду. Как тебя, такого, во дворец приглашать? Ты, гляди, и ее за собой потянешь.
— Что ты, что ты! — открестился Платов. — Это совсем не для физики, а вовсе даже для морали: во-первых, добрейшая душа; во-вторых, девка благонравная, а в-третьих… — тут он не выдержал и плотоядно облизнул губы, — ты погляди, какая она здоровая и белая, настоящая ярославская баба.
— Ну, так это ты знаешь, а другие? Они что думают?..
Не было бы счастья, да несчастье помогло. В 1815 году Бонапарт в последний раз всколыхнул Европу и мотал ей нервы еще сто дней[162]. Государь сразу вспомнил о Платове и послал ему из Вены рескрипт, чтоб забыл он о слабости здоровья и направлялся с донскими полками на возродившегося супостата.