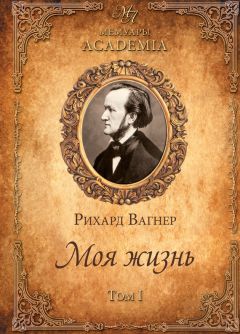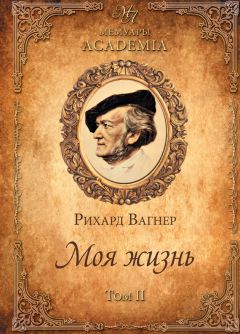Редкие посещения Вебера, напротив, на всю жизнь наполнили меня чувством живейшей к нему симпатии. В противоположность скандальной фигуре Сассароли, полный нежности, страдальческий и духовно просвет-ленный облик Вебера возбуждал во мне экстатическое участие. Его узкое, тонкое лицо, с живым и тем не менее часто затуманенным взором, неудержимо влекли меня к себе. Я часто наблюдал за ним из окна, когда он, сильно прихрамывая, проходил в обеденную пору мимо нашего дома, возвращаясь к себе после утомительных репетиций. Эта походка рисовала в моем воображении великого музыканта, существо необыкновенное, сверхчеловеческое. Когда матушка представила ему меня, тогда девятилетнего мальчика, он спросил, кем бы я хотел стать, может быть музыкантом? Матушка ответила, что хотя я страшно увлечен «Фрейшютцем», она, тем не менее, не открыла во мне ничего указывающего на музыкальное дарование. Это было совершенно верно подмечено ею: ничто не захватывало меня с такою силою, как музыка «Фрейшютца»; я всячески старался воскресить испытанные во время хода оперы впечатления, но, как это ни странно, все это не влекло меня тогда к изучению самой музыки. Я довольствовался тем, что любил слушать отдельные номера из «Фрейшютца» в исполнении моих сестер. Увлечение это постепенно росло во мне. Помню, как я сильно привязался к одному молодому человеку, по имени Шписс [Spieß], только потому, что он умел играть увертюру «Фрейшютца», и везде, где бы я его ни встречал, я просил его сыграть ее. Особенно введение к этой увертюре нравилось мне до такой степени, что я решился наконец, не умея совершенно играть на фортепьяно, подобрать его на этом инструменте и изобразить по-своему.
Удивительно, что меня одного в нашей семье вовсе не обучали музыке. Вероятно, этим я был обязан опасениям моей матушки, боявшейся всякого рода упражнением в искусстве возбудить во мне склонность к театру. Однако примерно на двенадцатом году ко мне пригласили учителя, некоего Гумана [Humann]: это были мои первые настоящие, хотя и очень скудные уроки на фортепьяно. Совершенно еще не владея пальцами, я немедленно приступил к разучиванию увертюр в четыре руки, причем целью всех моих усилий были увертюры Вебера. Когда я наконец добился своего и научился исполнять для себя самого, хотя бы и с большими погрешностями, увертюру «Фрейшютца», я счел задачу моих занятий с учителем исполненной и не чувствовал больше никакого желания продолжать брать уроки. Я ушел к тому времени вперед уже настолько, что считал себя совершенно независимым от учительского руководства, и сам старался разучивать и разыгрывать по-своему – и, конечно, очень неправильно – те вещи, которые мне нравились. Так именно я поступил с моцартовским «Дон Жуаном», хотя и без особенного для себя удовольствия: дело в том, что итальянский текст клавираусцуга[93] придавал в моих глазах всей музыке легковесность, многое мне казалось там пустым и недостаточно серьезным. Помню, что когда сестра пела ариетту Церлины «Batti, batti, o bel Masetto»[94], меня эта музыка оттолкнула как чересчур изнеженная и по-женски бессильная.
16
Однако моя любовь к самостоятельным занятиям музыкой все усиливалась, и я старался переписывать для себя мои любимые пьесы. Помню, как матушка неохотно дала мне деньги на покупку нотной бумаги, когда я намеревался сделать первую свою копию с веберовской Lützow’s Jagd[95]. Мои занятия музыкой оставались тогда для меня все-таки чем-то второстепенным. Однако известие о смерти Вебера и горячее желание познакомиться с его музыкой к «Оберону» вновь разожгли во мне непреодолимый интерес к ней. Обильную пищу доставляли этому интересу послеобеденные концерты в дрезденском «Большом саду»[96], где городской оркестр Цильмана[97] исполнял, как мне казалось, с большим мастерством любимые мои музыкальные произведения.
Помню отчетливо и сейчас волшебный, сладостный восторг, охвативший меня, когда я в непосредственной близости слушал звуки оркестра. Само настраивание инструментов действовало на меня мистически: звуки скрипичной квинты, когда по ней проводили смычком, казались мне приветом из мира духов, – и это, отмечаю между прочим, не в переносном, а в прямом, буквальном смысле. Еще когда я был совсем маленьким ребенком, звук квинты сливался для меня с таинственным миром призраков, который в то время меня волновал. Долго я не мог без жуткого чувства проходить мимо маленького дворца принца Антона[98] в конце Остра-Аллее[99] в Дрездене. Именно здесь я впервые, а потом все чаще и чаще слышал совсем близко звуки настраиваемой скрипки, исходившие, как мне казалось, от украшавших дворец каменных статуй, некоторые из которых были изображены с музыкальными инструментами в руках. (Уже будучи капельмейстером в Дрездене[100], я посетил однажды концертмейстера Моргенрота[101], пожилого господина, жившего издавна напротив дворца принца, и странное чувство охватило меня, когда во время этого визита я убедился, что звуки квинты, возбуждавшие мою детскую музыкальную фантазию, не имели ничего общего с мистическим миром привидений.) Так как мне в то время случилось, кроме того, увидеть известную картину, на которой изображался скелет мертвеца, играющего на скрипке перед умирающим стариком, то все, что есть призрачного в этих именно звуках, запечатлелось с особенной силой в моем детском воображении. Кто видел, как я, словно зачарованный, бродил ежедневно после обеда в «Большом саду» вокруг цильмановского оркестра, тот не мог не замечать, что я ловил и впитывал в себя со сладострастным трепетом хаотические звуковые краски, долетавшие до меня из оркестра при настраивании инструментов: протяжное «А»[102] гобоев, звучащее как напоминание из мира духов, как таинственный призыв, обращенный ко всем другим инструментам, это «А» всякий раз приводило мои нервы в лихорадочно-напряженное состояние. Постепенно нарастающее «С» в увертюре «Фрейшютца» как бы переносило меня непосредственно в царство сказочных ужасов. И тот, кто видел меня тогда, не мог не понять, какое все это имеет отношение к моей душе, и должен был судить обо мне не по моей скверной игре на фортепьяно.
Еще одно музыкальное произведение привлекло меня тогда с такой же силой: это была увертюра E-dur к «Фиделио»[103], в особенности ее введение. Я стал расспрашивать у сестер про Бетховена и тут же узнал, что получено известие о его смерти. Скорбное впечатление от смерти Вебера еще не улеглось во мне, и теперь эта новая смерть музыкального мастера, только что вошедшего в мою жизнь, наполнила меня странной, жуткой болью. В этом чувстве было нечто общее с тем моим детским трепетом, который вызывали во мне звуки скрипичной квинты. И мне захотелось поближе познакомиться с Бетховеном. В Лейпциге, у сестры Луизы, я нашел на фортепьяно «Эгмонта»[104]. Затем я старался добыть его сонаты. Наконец, на одном Гевандхауз-концерте[105] мне привелось впервые услышать его симфонию. То была симфония A-dur[106]: впечатление, произведенное ею на меня, было неописуемое. В это же время я впервые познакомился и с внешностью Бетховена по распространенным тогда литографиям, узнал про его глухоту, про его нелюдимость и одинокую, скрытую от всех жизнь, – и во мне сложился образ возвышенной, неземной оригинальности, с которым ничто не могло сравниться. Образ этот слился во мне воедино с образом Шекспира: в экзальтированных сновидениях они являлись мне оба, я их видел, говорил с ними и просыпался весь в слезах. Из творений Моцарта я познакомился тогда с его Requiem [Реквиемом], что послужило исходным пунктом для моего восторженного увлечения и этим мастером. Второй финал к «Дон Жуану» подействовал на меня так, что и его я целиком включил в мир моих грез.
17
Сочинять стихи я пытался издавна, теперь я должен был, естественно, попробовать компонировать. Но здесь требовалось изучение совершенно особенной, самостоятельной технической области, и задача оказывалась гораздо труднее, чем при столь простом и, как мне казалось, столь удачном с моей стороны стихотворстве. Борьба с этими затруднениями вскоре определила все течение моей жизни: я стал вести жизнь «музыканта», что наложило на меня со временем особый, специфический отпечаток «капельмейстера» и «оперного композитора».
Итак, к «Лойбальду и Аделаиде» я намеревался написать музыку, как Бетховен к гётевскому «Эгмонту». Надо было всем отдельным типам из мира призраков, столь различным по своему характеру, сообщить соответственный колорит при помощи определенного музыкального сопровождения. Чтобы поскорее научиться компонировать, я прибег к книге Ложье[107] Methode des Generalbasses[108], на которую мне в одной музыкальной библиотеке для чтения указали как на хорошее руководство для этой цели. Припоминаю, что финансовые затруднения, всю жизнь непрерывно терзавшие меня, начались именно с этого момента. Я взял книгу Ложье для прочтения с оплатой за недельный абонемент в приятной надежде, что всего за неделю справлюсь с ней и покрою расход из своих карманных денег. Недели, однако, растянулись в месяцы, и я все еще не умел компонировать, как мне хотелось. Владелец библиотеки, Фридрих Вик[109], будущий тесть Роберта Шумана[110], стал делать мне серьезные напоминания, и когда счет за абонемент достиг стоимости самой книги, я увидел себя вынужденным открыть все моим близким.