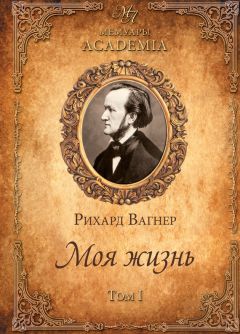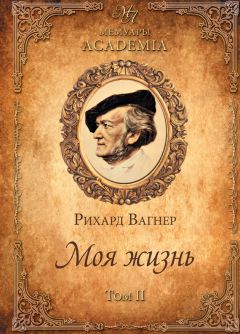С таким музыкальным багажом я предпринял в это лето свое первое путешествие в качестве композитора. Сестра Клара, бывшая замужем за певцом Вольфрамом[119], была приглашена в Магдебургский театр. Туда-то я и отправился пешком, по старой привычке к подобного рода путешествиям. Из моего кратковременного пребывания у родственников я вынес кое-какие неожиданные музыкальные впечатления: я встретился с новым оригиналом, влияния которого на меня я поныне забыть не могу. Это был музикдиректор[120] Кюнляйн [Kühnlein], действительно своеобразный, странный человек. Уже пожилой, болезненный и, к сожалению, злоупотреблявший алкоголем, он импонировал мне необыкновенным полетом мысли и изысканностью речи. Самой главной его особенностью было безграничное преклонение, чуть не обожествление Моцарта и в то же самое время ожесточенное пренебрежение к Веберу. Он читал только одну книгу – «Фауста» Гёте, и на каждой странице этой книги были им подчеркнуты места, в которых, на его взгляд, следовало видеть подтверждение гениальности Моцарта или ничтожества Вебера. Этому человеку зять передал на просмотр мои композиции, чтобы по его отзыву судить о моих способностях.
Когда однажды вечером мы сидели и благодушествовали в трактире, туда явился старый Кюнляйн и с серьезным и приветливым видом подошел к нам. Судя по выражению его лица, я ждал хорошего отзыва. Зять спросил его, что он думает о моих работах. «Никуда не годится», – ответил он с кротким спокойствием. Привыкший к странностям Кюнляйна, зять громко расхохотался, что меня до некоторой степени успокоило. Добиться от него ясных оснований его суждения и каких-либо указаний я не мог. Всякий раз он сводил разговор к новым глумлениям над Вебером, и только раз упомянул о Моцарте, что все-таки произвело на меня известное впечатление, так как Кюнляйн всегда изъяснялся с почти экстатическим жаром.
С другой стороны, я в это же самое время тут же, в Магдебурге, сделал чудесное открытие, которое должно было увлечь меня далеко от «учения» Кюнляйна: это была партитура гениального бетховенского квартета Esdur[121], в то время еще сравнительно нового произведения. Зять заказал для меня список с него. Обогащенный неожиданными впечатлениями, с новым сокровищем в руках, я уехал в Лейпциг, в мое гнездо, к месту, где зарождались мои музыкально-фантастические начинания. Но здесь я не мог уже помешать вернувшимся членам семьи, к которой присоединилась и сестра Розалия, узнать наконец всю правду про мою окончательно разрушенную школьную карьеру.
19
Обнаружилось, что в течение целого полугодия я вовсе не посещал гимназии. Ввиду того, что все жалобы, направленные к дяде, не вели ни к чему, ректорат, по-видимому, решил махнуть рукой и отказаться от всяких попыток воздействовать на меня, чему я сам сильно способствовал, как выше указано, тем, что совершенно не появлялся более на занятиях.
Снова начали совещаться, как со мной быть. Так как я настаивал самым решительным образом на своем желании непременно заниматься музыкой, то родные решили, чтобы я, по крайней мере, хотя бы научился играть как следует на каком-нибудь инструменте. Зять Брокгауз предложил отправить меня в Веймар к Гуммелю[122], чтобы там сделать из меня пианиста. Но когда я стал горячо доказывать, что для меня «заниматься музыкой» значит «компонировать», а не «играть на каком-нибудь инструменте», они уступили и решили, что я буду продолжать изучать гармонию у того же музыканта Мюллера, у которого я и раньше тайно брал до сих пор еще не оплаченные уроки. За это я должен был обещать прилежно заниматься в гимназии Святого Николая.
И то, и другое превратилось скоро для меня в муку, так как и здесь, и там я чувствовал себя, как в тисках. Это относилось, к сожалению, и к урокам музыки, так как сухие задачи по гармонии все больше и больше меня отталкивали, в то время как для себя я продолжал сочинять и исполнять фантазии, сонаты и увертюры. С другой стороны, самолюбие побуждало меня доказать в гимназии, что я многое умею, если только захочу. И когда нам, ученикам пятого класса, было задано сочинить стихотворение, я написал песню в стиле хора древнегреческих трагедий на греческом языке, посвященную последней войне греков за освобождение. Я, конечно, понимаю, что моя греческая поэма имела такое же приблизительно отношение к греческому языку и поэзии, как тогдашние мои сонаты и увертюры – к серьезной, профессиональной музыке. Мою попытку сочли неслыханной дерзостью и презрительно отклонили. С этого момента у меня больше не осталось никаких воспоминаний о гимназии. Дальнейшие занятия в ней были с моей стороны тяжкой жертвой, которую я приносил домашним: тем, что делалось в классе, я совершенно не интересовался, а занимался на уроках исключительно чтением, которым очень увлекался.
20
Уроки музыки, как уже было упомянуто, не приносили мне никаких плодов, и я продолжал свое музыкальное самообразование, списывая партитуры моих любимых мастеров, чем приобрел себе, между прочим, превосходный почерк, которым впоследствии многие любовались. Насколько я знаю, мои списки с Пятой и Девятой симфоний[123] Бетховена еще и сейчас сохраняются как память обо мне.
Девятая симфония Бетховена стала как бы мистическим средоточием всех моих фантастически-музыкальных мыслей и планов. О ней сложилось тогда мнение – и, наверное, не в одном только Лейпциге, – что она написана Бетховеном уже в полубезумном состоянии. И это меня особенно к ней привлекло. Ее считали «Non plus ultra» всего фантастического и непонятного: этого было довольно, чтобы заставить меня со страстью углубиться в это творение демонического гения. Уже при первом взгляде на с таким трудом добытую партитуру меня словно с роковой силой привлекли к себе протяжные чистые квинты, с которых начинается первая часть симфонии: эти звуки, которые, как я уже рассказывал, играли такую таинственную роль в моих юношеских музыкальных впечатлениях, здесь выступали для меня как призрачно-мистический основной тон моей собственной жизни. Эта симфония должна была заключать в себе тайну всех тайн, и я приложил самые напряженные усилия, чтобы списать для себя партитуру.
Помню, как однажды после целой ночи, проведенной за этой работой, серый предутренний свет так поразил меня и при сильнейшем моем возбуждении так на меня подействовал, что я громко вскрикнул, как будто увидев привидение, и спрятался в постель. Переложения этой симфонии для фортепьяно тогда еще не существовало. В публике она встретила так мало сочувствия, что издатель не нашел для себя выгодным выпустить клавираусцуг. Я составил полное фортепьянное переложение в две руки и пытался сам играть его. Мою работу я послал издателю партитур, Шотту[124], в Майнц, и получил в ответ письмо, в котором мне сообщалось, что издательство пока еще не решается приступить к выпуску клавираусцуга Девятой симфонии, но что оно охотно сохранит у себя мою добросовестную работу. Мне же в обмен оно предлагает в подарок партитуру большой Missa solemnis[125] – что я и принял с радостью.
Одновременно с этой работой я занимался некоторое время игрой на скрипке, так как мой учитель гармонии вполне разумно полагал, что будущему оркестровому композитору необходимо известное знакомство с устройством этого инструмента. Матушка заплатила скрипачу Зиппу [Sipp], еще и ныне (1865) играющему в Лейпцигском оркестре, восемь талеров за скрипку. Какая судьба ее постигла – не знаю, но в течение трех месяцев я из своей удивительно крохотной комнатки терзал ею слух матушки и сестры. Я дошел до известных вариаций F-dur Майзедера[126], но только лишь до второй или третьей. Больше я ничего не помню об этих упражнениях, а моя семья, к счастью, и, по-видимому, из эгоистических соображений, на дальнейших моих усилиях в этом направлении серьезно не настаивала.
Наступило, однако, время, когда меня снова охватил страстный интерес к театру. Дирекция Дрезденского придворного театра взяла на себя в течение трех лет руководство лейпцигской сценой, и в моем родном городе собралась при самых благоприятных условиях новая труппа. Сестра Розалия стала членом этой труппы, и благодаря ей я имел легкий доступ на все спектакли. Все то, что в мои детские годы удовлетворяло мое любопытство и занимало мое фантастически настроенное воображение, все это превратилось в гораздо более серьезную, осознанную страсть. «Юлий Цезарь», «Макбет», «Гамлет», пьесы Шиллера, наконец, гётевский «Фауст» глубоко волновали и воодушевляли меня. На оперной сцене ставились впервые «Вампир» и «Храмовник и еврейка» Маршнера[127]. Итальянская оперная труппа прибыла из Дрездена и восхищала лейпцигскую публику своей необыкновенной виртуозностью исполнения. Даже я был до того охвачен царившим в Лейпциге ажиотажем, что почти забыл детские впечатления, оставленные во мне некогда синьором Сассароли. Как вдруг чудо, пришедшее к нам опять-таки из Дрездена, дало моему художественно-артистическому чувству новое, для всей моей жизни решающее направление.