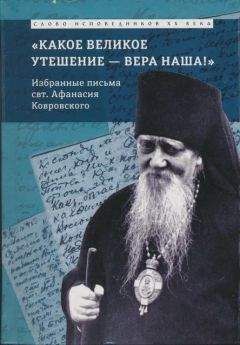В «Столпе» Флоренский не станет выделять монадологию Н. Бугаева, а назовет основным открытием архим. Серапиона Машкина онтологический процесс, когда «вместо пустого, мертвого и формального самотождества А=А, в силу которого А должно было бы самостно, самоутвержденно, эгоистически исключать всякое не-А», получается «полное жизни, реальное самотождество А, как вечно отвергающегося себя и в своем самоотвержении вечно получающего себя»[184]. Но впрочем, в том же 1908 г., когда писались вышеуказанные строки «Столпа», он отдает дань в этом отношении и Платону: в пробной лекции «Общечеловеческие корни идеализма» он говорит, что это Платон указал, «как рушится и падает непроходимая стена между субъектом и объектом, как Я выходит за пределы своего эгоистического обособления, как открытою, широкою грудью вдыхает оно горный воздух познания и делается единым со всем миром…»[185].
По завершении периода «катарсиса» Флоренский входит в мир религии через Платона и с Платоном, полагая, что (как будет сказано им в 1915 г.) платонизм – «естественная философия всякой религии», «возбуждающая струя в религиозной мысли человечества»[186]. По окончании академии (1908) он делает упор на «удивительном сходстве» между учением Платона «и миропониманием еще более древних предков наших, теряющихся в тумане древности»[187]. Платонизм, утверждает он, корнями своими «привлекает к себе почвенную влагу общечеловеческих верований», и в этом причина его «вечности». «Ведь Платон… цветок народной души»[188]. В 1915 г. он также скажет весьма утвердительно: «… В платонизме явились осознанными целые полосы, целые миры народной религии и общечеловеческого жизнепонимания»[189]. Платон – «глубочайший из язычников»[190], «глубокий и мудрый мыслитель» («Культ и философия», 1918)[191], понятия «народное», «платоновское» и «церковное» тождественны («Иконостас», 1922)[192], «В храме мы стоим лицом к лицу перед платоновским миром идей» («Храмовое действо как синтез искусств», 1922)[193]. Применительно к антропологии «платонизм» Флоренского скажется на концепции, согласно которой человек в своей познавательной ценности – «лицо лица» или «лик» человека – это платоновская идея[194] со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Можно сказать, что период «катарсиса» завершается для Флоренского философским (по Платону) оправданием его личного опыта ощущения в Природе и (гораздо менее) в человеке иной, более высшей реальности, чем это представляется в эмпирии. При этом в важных вопросах свидетельства об этой реальности он хочет поставить на службу философии математику, полагая, что ее потенциал почти неограничен, вплоть до возможности «теснейшего соприкосновения» даже с такой далекой от нее областью, как нравственное богословие (об этом, правда, он пишет уже на 2-м курсе МДА, в конце 1905 г., в работе «О типах возрастания»[195]). В «Воспоминаниях» окончание университета (весна 1904 г.) обозначено о. Павлом как новый кризис, закончившийся на сей раз обращением к религии. В июне 1904 г. он пишет, по образцу платоновского диалога, «Беседу» («Эмпирея и эмпирия»), в которой помимо вопросов о Богочеловеке, таинствах и иной реальности речь заходит о возможности «абсолютного мировоззрения». Такое мировоззрение должно раскрывать смысл жизни, давать действительность в ее истине и правде, раскрывать право на существование того, что мы имеем в реальности. Один из собеседников спрашивает другого: имеет ли он уже такое мировоззрение, далось или удалось оно ему? «Многое для меня не вполне разработано, – таков ответ, – еще больше неуясненного в логических формах… Но если не само мировоззрение, то начала, основы его уже имеются (курсив мой. – Н. П.)». Оно не «удалось» и не «далось», а «дано». И это церковное христианство; «абсолютное мировоззрение есть кафолическое христианство»[196].
Для нас важны здесь два момента, которые и следует немедленно отметить:
1. Флоренский уже твердо убежден – в соответствии с изначальными детскими интуициями, – что все открываемое и изучаемое им в эмпирии ему уже «дано» на гораздо более глубоком уровне его существа.
2. Флоренский открывает в глубинах своего существа мировоззрение, которому, по его убеждению, лучше всего соответствует церковное христианство. Это делает его сознательным православным ученым и философом, не имеющим намерения ни «христианизировать платонизм», ни «платонизировать христианство», а просто уверенным в том, что Платон и православие – это, по большому счету, два не противоречащих друг другу проявления «древнейшего», «общечеловеческого» мировоззрения.
«Скажу о себе, – писал он в ноябре 1913 г. ректору МДА, еп. Феодору (Поздеевскому), в связи с нападками в свой адрес. – Я имел возможность быть профессором по любимой мною математике; имел и другую возможность – заниматься богословием за границей (мой отец почти требовал этого и обиделся на меня за Академию). Если я отказался от всего этого и, избрав Академию, потратил на нее десять лучших лет своей жизни и упорного труда, – значит, я хотел именно православия и именно церковности. Я хотел и хочу быть верующим сыном Церкви…»[197] Нет никаких оснований сомневаться в искренности этих слов, тем более что она засвидетельствована и всей последующей жизнью о. Павла.
«Матесис». Первая половина
В МДА Флоренский поступил сразу по окончании университета, против воли отца и по совету еп. Антония (Флоренсова)[198]. Его работы, написанные в период учебы в академии (1904–1908), несут на себе печать только что свершившегося открытия христианства и церковности и вместе с тем свидетельствуют о прочности тех мировоззренческих основ, на которых их автор уже укрепился в предшествующие годы.
Так, в анализе «Северной симфонии» А. Белого («Спиритизм как антихристианство», 1904) Флоренский утверждал наличие в каждом человеке его «идеального облика», который он может «получить» как нечто «окончательное» и «законченное»[199]. В опубликованной в том же 1904 г. работе «О символах бесконечности (очерк идей Г. Кантора)» обсуждалась проблема актуальной и потенциальной бесконечности и делался вывод, что «всякая потенциальная бесконечность уже предполагает существование актуальной бесконечности, как своего сверх-конечного предела». Там же цитировался Гете, согласно которому «замкнутая бесконечность» более соответствует человеку, чем звездное небо, «причем последнее, – добавлял Флоренский, – конечно, разумеется именно как некоторая возможность устремляться все далее и далее, никогда не будучи в состоянии произвести синтез и успокоиться на целом»[200]. В студенческом сочинении «О типах возрастания» (1905; опубл. в «Богословском вестнике» в 1906 г.) эти темы развиты применительно к человеческой личности. В личности, сказано там, есть два момента, «две стороны бытия» – «идеальная» и «реальная». Они относятся друг к другу как безусловная и условная ценность, как актуальная и потенциальная бесконечность, как Образ и Подобие Божие. «Личность – Храм Божий, но она же – и Живущий в нем, конечное и бесконечное… существо двойственной жизни или амфибия, как называл ее Плотин»[201].
Флоренский явно постулирует изначальное обожение глубинной структуры человека, причем все изложение ведется с применением категории личности: процесс «изменения для личности условной» – это постепенное раскрытие «личности безусловной»[202]. 1906 г. также датирована его большая работа «Понятие Церкви в Священном Писании», где говорится, что «дуальная природа Церкви ведет к необходимости различать в ней два элемента, две стороны: безусловную и относительную»[203]. Это те же две «стороны бытия», которые имеет каждая «отдельная» личность; в данном случае речь идет о «совокупной» личности всей твари, которая, по мере продвижения к ее бытийному средоточию, есть София, Церковь и Пресвятая Дева Мария[204].
Студент Флоренский в 1906–1907 гг. делает подборку литературы, согласно которой христианство, признав «абсолютной» личность, фактически отреклось тем самым от всех кровных связей и соотношений как от языческого пережитка. Род, семья, генеалогическое древо, которые до христианства не просто ценились, а были мистически значимы, теперь перестали иметь всякое значение[205]. Очень скоро после этого (уже к 1909 году), переживая очередной внутренний кризис, Флоренский начнет исследовать свою родословную и будет постепенно создавать учение о действительной мистической значимости рода; род в конце концов окажется для о. Павла онтологически более значимой реальностью, чем личность (см. «Смысл идеализма», 1915; лекции «Об историческом познании», 1916; особенно – в монографии «Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях», 1924).