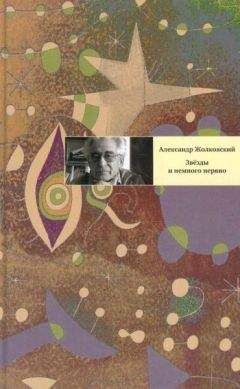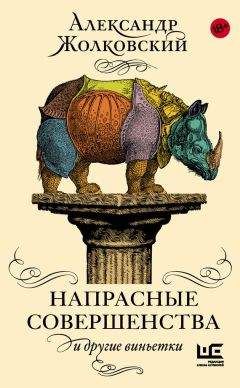А вскоре папа рассекретил свою пародию на сталинские речи — музыкальную в своем структурном совершенстве миниатюру, которой потом часто развлекал знакомых.
«Мэ-жьдународные а-вантюристи па-таму и називаются мэ-ждународными а-вантюристами, что оны пускаются во всякого рода авантюры мэ-ждународного характэра. Спрашивается, па-чиму оны пускаются в мэждународные а-вантюры? Оны пускаются в мэждународные а-вантюры па-таму, что, будучи мэ-ждународными а-вантюристами па сваэй природе, оны нэ могут нэ пускаться во всякого рода мэждународные авантюры!»
Среди многочисленных папиных знакомых была Флора Павловна Ясиновская-Литвинова — жена физика Михаила Максимовича Литвинова (и тем самым невестка наркоминдела 30-х годов М. М. Литвинова-Валлаха), по профессии биолог. Не знаю, как они встретились, может быть, случайно, в Доме творчества композиторов в Сортавале, где мы были летом 1946 года и где папу ужалила гадюка, а может быть, в Москве, через Е. Л. Фейнберга, который свел папу с целым кругом физиков. Флора Павловна, эффектная женщина с медно-рыжими волосами и кипучей энергией, мало кого оставляла равнодушным; не исключаю, что у папы был с ней роман той или иной степени платоничности.
Как-то в 1956 году папа взял меня к Литвиновым в гости. Это одно из острейших — позорных — моих воспоминаний. Самого наркома (еврея, отстраненного Сталиным в момент заключения пакта с Гитлером, но не репрессированного) уже лет пять не было в живых, однако наличествовала его вдова, англичанка (и все равно еврейка), детская писательница Айви Вальтеровна Лоу, внушительная седая дама с пробором, большим носом и уверенными манерами. (Она сохранила британское подданство и в дальнейшем вернулась в Англию.) Услышав, что молодой человек занимается английским языком (я учился на романо-германском отделении филфака МГУ), она заговорила по-английски и сунула мне, безумно стеснявшемуся и благодарному за повод отсесть подальше, какую-то английскую книгу, чуть ли не «Paradise Lost» Мильтона. Но укрыться от ее внимания мне не удалось, и вскоре она убедилась в скромности моих познаний. «Ah, that’s how you read!» — резюмировала она.
Из ее table-talk’а помню рассказ о том, как во время последнего визита в Лондон она пошла на ланч с Джоном Берналом, английским физиком, неизменным другом Советского Союза и ее старинным знакомым. Когда он зашел за ней в отель, она спросила, заметил ли он, что это тот самый, где они встречались во времена их affair.
К столу ненадолго вышел шестнадцатилетний Паша, молчаливый, худой, нескладно высокий юноша, будущий герой-диссидент. (Михаил Максимович потом острил, что из сына своего отца он превратился в отца своего сына.) Гвоздем программы был приехавший из-за границы левый американский журналист Луи Фишер, левый, но уже давно не просоветский. Стояла хрущевская оттепель, люди с Запада начали появляться в Москве, однако за одним столом с «буржуазным иностранцем» я сидел впервые.
В нем меня поразило все — пальто-реглан, трубка, уверенные замечания о разных странах, например, что хотя Югославия и выпала из советской орбиты, строят там все равно кое-как — рабочие навыки не те.
Любоваться им со стороны мне пришлось недолго. Заговорив о сенсационном тогда антисталинском докладе Хрущева на ХХ съезде, он обратился ко мне, представителю студенческой молодежи, с вопросом, как же так — разоблачительный доклад не публикуется, а сообщается народу по секрету. Я смутился, сказал, что не знаю, и вообще, почему он спрашивает меня, который тут ни при чем. Он только покачал головой. Моя политическая незрелость показалась бы ему, наверно, еще более непростительной, признайся я, что из снобизма не пошел на закрытое комсомольское собрание, где доклад зачитывали.
Жгучий стыд долго не проходил, обострив впечатление от внезапно, как сквозь замочную скважину, приоткрывшихся географических и исторических далей, которые вскоре, хотя и очень постепенно, начали приближаться. Любопытно, что поворотную в этом отношении подпись в защиту Гинзбурга и Галанскова я поставил, услышав по западному радио обращение Павла Литвинова (1968 г.) и снова испытав чувство стыда — люди не боятся, а ты?
В этом семестре (весна 2004 года) у меня один класс начинается в 8 утра. Это общеобразовательный курс, студенты выбирают его по разным соображениям, не последнее из которых — удобный ранний час. Тем не менее, многие приходят в дремотном состоянии. Я тормошу и развлекаю их, как могу, изыскиваю все новые способы и однажды вспомнил рассказ папы из его опыта преподавания в Институте военных дирижеров.
Институт был поставщиком экзотических ситуаций и словечек. Например, дежурный по казарме офицер командовал:
— Матрацы должны быть потрясены!
Аналогичный подход применялся к самим курсантам.
На занятиях, которые вели бывшие консерваторские профессора, присутствовал офицер, следивший за соблюдением воинской дисциплины. Во время лекции он молча сидел рядом, но однажды вдруг мягко остановил папу:
— Извините, товарищ профессор…
Папа удивленно осекся, а офицер заорал, как на плацу:
— Встать! Сесть!
Слушатели с грохотом вскочили, с грохотом сели. Маневр был повторен еще дважды, после чего офицер, замыкая композицию, тем же деликатно штатским голосом, что и раньше, обратился к папе:
— Так что сплят, хады, товарищ профессор. Продолжайте, пожалуйста.
Я рассказал эту историю своим сонным студентам, чем отчасти взбодрил их. Более грустными соображениями о сходстве папиной отправки к военным дирижерам и моей к калифорнийским первокурсникам я делиться пока не стал, оставил на черный день. Собственно, и к папе-то мера была применена не высшая (могли бы бритвочкой), а моя ссылка — тем более, добровольная и вообще южная.
За столом я часто пачкаю одежду — соком, кофе, соусом, клубникой, свеклой, вином, но при первой возможности бегу сполоснуть пятно, отмыть, растворить, оттереть его и, как правило, в этом преуспеваю. Тем более, в Калифорнии все быстро сохнет прямо на мне, да и нравы просты до чрезвычайности. Разумеется, некоторые хмыкают, но я не смущаюсь, черпая уверенность в опыте двух авторитетных фигур: Мартина Лютера, — как и он, я не могу иначе, и главного композитора и министра культуры советской Грузии Отара Тактакишвили, о котором, кроме его незабываемой фамилии, знаю ровно одно — историю, рассказанную папой.
На официальном приеме для членов Союза Композиторов папа оказался соседом Тактакишвили по столу. Тот был одет с грузинским шиком, выглядел прекрасно, держался, как всегда, джентльменом. Но вдруг капнул чем-то жирным себе на костюм. С кем не бывает? Интересно, конечно, не это, а то, как в предложенных обстоятельствах повел себя герой.