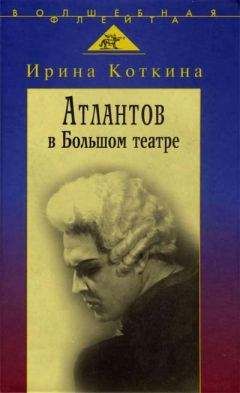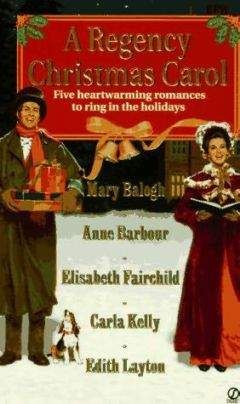Он потянулся, хрустнул пальцами и потребовал:
– Покажите-ка, что вы за музыкант. Может, и разговор вообще бесполезный.
Это было произнесено с такой решительностью, что Мусоргский не посмел отказаться и последовал за говорившим. Балакирев сел на вторую партию, а он без возражений – На первую.
– Не попробуете ли Девятую симфонию? Мы с ним сегодня собирались играть, – предложил Кюи.
Балакирев хмуро согласился. Он посмотрел на соседа, и тот почему-то встал, хотя ноты были уже открыты. Не заботясь о нем, Балакирев принялся играть: он наизусть исполнял отрывки из бетховенских оркестровых творений: аллегретто из Седьмой симфонии, финал из Четвертой, скерцо из Героической.
С первой же минуты Мусоргскому стало ясно, что перед ним музыкант силы необыкновенной. Со все возраставшим удивлением он слушал, как свободно и смело воплощает играющий бетховенскую музыку.
Кюи неслышно расхаживал. Он улыбался, довольный тем, что приготовленный им сюрприз произвел такое сильное впечатление на Мусоргского: забыв все на свете, тот отдался слушанию и наслаждался. Да и горячность Балакирева была не случайной: встреча, которую Кюи задумал, по всему было видно, удалась.
Наигравшись, Балакирев вспомнил:
– Что ж вы? Садитесь.
Взгляд его, когда обернулся, показался Мусоргскому теплей и яснее: этот нервный, неровный и горячий человек привлек его к себе еще больше.
В чтении нот Мусоргский не был больше новичком, и хотя он, сидя рядом с таким пианистом, волновался, дело шло с каждой минутой все лучше. Балакирев тоже почувствовал в нем партнера гибкого в исполнении, чуткого на оттенки и свободного в технике.
Продолжая играть, он заметил:
– Это вы, надо признать, умеете.
Изредка он бросал скупое замечание, относившееся то к форме, то к неожиданно сложной гармонии. Темперамент исполнителя не мешал ему быть в то же время аналитиком.
– Да, вот это – творение! – произнес он, когда кончили играть. – В последних своих вещах Бетховен поднялся до высот недосягаемых.
Видя, с какой готовностью слушает его Мусоргский, Балакирев вернулся к прерванному разговору. Он пересел на диван, однако в пылу беседы вставал и подходил к роялю. О чем ни заходила речь, он тут же проигрывал все, не требуя нот от хозяина.
Наговорившись всласть, он вспомнил, что Мусоргский ничего своего еще не сыграл.
– А ну-ка, покажите, что у вас есть.
– Да у меня, кроме полек да детских воспоминаний и импровизаций, ничего нет, – сказал со смущением Мусоргский.
– Импровизации тоже бывают разные.
Снова, как в первый раз, он обхватил колени руками, приготовившись слушать. В иную минуту глаза его начинали блестеть сильнее, потом блеск потухал, и Балакирев недовольно отворачивался.
Дослушав до конца, он сделал свое заключение:
– Способности большие, но умения разрабатывать мысль ни на грош. Претензии видны, а техники нет. Без нее сочинителем стать невозможно. Учиться надо, сударь мой, иначе толку не будет.
– Я уже это понял.
Отстранив автора и помня все, что тот играл, Балакирев стал показывать, где и что надо было развить и дополнить. Это была новая импровизация, основанная на только что прослушанной, но более яркая и стройная по форме.
Кюи, сидя в кресле вытянув ноги, поддакивал и со всем соглашался. Его присутствие мешало Мусоргскому до конца почувствовать себя учеником. А учиться захотелось сильно – хоть бы сейчас, сию минуту сесть за работу!
На улице чуть смерклось, жара поубавилась; в комнате все посерело. День не угомонился совсем, но стал тише и глуше. И разговор утратил прежнее свое напряжение. Поговорив горячо с новым знакомым, Балакирев готов был уже видеть в нем своего союзника.
– Итак, надо учиться, учиться, – закончил он. – Вопрос в том, у кого.
Кюи, захватив в руку свои бачки, другой, свободной, показал на Балакирева:
– Да у кого же еще, кроме как у вас, Милий Алексеевич?
Балакирев нахмурился и отвернулся. На минуту в комнате возникло неловкое молчание.
Мусоргский спросил неуверенно:
– А вы взяли бы меня к себе в ученики?
Тот искоса смерил его взглядом.
– На определенных условиях – да. – Он повернулся и посмотрел на Мусоргского испытующе, почти с неприязнью. – Быть в искусстве полезным – дело нелегкое, на это способен не всякий. К жертвам вы готовы? – резко спросил он. – Вам в музыке свой путь назначен, а вот сумеете ли до него добраться?
Мусоргский готов был в эту минуту на все, но он не знал, чего требует от него Балакирев. А тот так и не сказал, о каких жертвах идет речь.
– В вас развинченность есть, вот что меня смущает. Впрочем, подумайте обо всем, тогда и решим.
– Нет, я решил, – просто ответил Мусоргский. – Я согласен на все, что ни потребуется.
Хозяйка Софья Ивановна, встречая гостя, таинственно предупреждала:
– С утра работал, а теперь читает… Осторожнее входите, а то он не любит, когда мешают.
К своему жильцу она начала относиться с почтительным расположением. Чем полюбился ей Балакирев – талантом ли, твердостью ли характера или скромностью, – трудно было сказать, но она не сердилась, когда он играл поздно, и мирилась с тем, что ей редко разрешалось производить уборку в комнате.
Беспорядок в комнате был изрядный: книги большими и малыми стопками лежали на столе, на подоконнике, на стульях и даже на кровати. Читал Балакирев лежа, сразу несколько книг и любил, чтоб нужная была всегда под руками. Прежде чем лечь, он набирал их из разных пачек: философские, исторические, экономические, тетради нот – и клал рядом с кроватью. Поглощалось все без разбора: Балакиреву необходимо было побольше знать о мире, в котором он существует, и пытливость его распространялась на разные области знания. Кроме того, Балакирев вел большую постоянную переписку со знакомыми и друзьями; но жил он так бедно, с деньгами бывало так туго, что приходилось иногда экономить на марках и ждать оказии, чтоб не посылать письмо по почте.
Когда нарядно одетый молодой офицер явился в квартиру и опасливо справился, не занят ли Милий Алексеевич, Софья Ивановна, уловив в его облике что-то симпатичное, расположилась к нему с первого взгляда.
– Голоса не подает, но не спит, – ответила она шепотом. – Вы пройдите. Он, думаю, не рассердится.
Балакирев лежал, положив ноги на стул. Все, что купила утром заботливая хозяйка: колбаса, крутые яйца, два калача, – лежало на другом стуле, и в случае надобности можно было до еды дотянуться рукой.
Увлеченный чтением, он посмотрел на вошедшего лучистыми своими глазами и с неохотой отложил книгу, спустив ноги на пол.
– Мазурку небось принесли?
– Нет, скерцо,[iii] Милий Алексеевич.