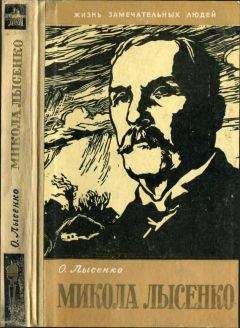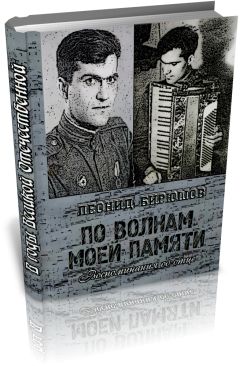…Передо мной тоненькие листики почтовой бумаги, густо исписанные бисерно мелким почерком.
Письма — настоящий дневник путешествия и лейпцигского бытия. Сам Николай Витальевич неоднократно повторял, что «чем-чем, а писательским даром всевышний обошел его». И даже в воспоминаниях самых близких друзей композитора никто и словом не обмолвился о пишущем Лысенко. Считалось, что композитор не отличался склонностью к литературному творчеству. Но уже одни письма «лейпцигского цикла» — только малая толика громадного эпистолярного наследия Лысенко — говорят об ином.
К сожалению, значительная часть Лысенкового архива погибла в дни гитлеровской оккупации, и все же дошедшие до нас письма, адресованные родным, университетским товарищам, классикам украинской литературы, композиторам, актерам, художникам, историкам, — письма деловые и лирические, спокойные и полные полемического задора, насыщенные то меткими этнографическими наблюдениями, то важными, подчас «ключевыми» теоретическими выводами, составляют два больших тома.
Дело, конечно, не в количестве писем, а в том, что письма всегда оставались (на другое и времени не хватало) излюбленным литературным жанром композитора.
«Лейпцигские письма» продиктованы нежной привязанностью к родным, заботой о них, но главное не это, а желание Лысенко поскорее подытожить, запечатлеть на бумаге увиденное, услышанное. Его так и тянет описать незнакомую местность, старинные замки, людей, с которыми он встречается, их нравы, язык.
«Вчера еще часов в 11 утра я прибыл в Ровно. Повели меня осматривать стародавние развалины замка кн. Любомирского, что стоит тут же близенько на острове… Громадное это здание, видно, великолепно когда-то устроенное, судя по фрескам и богатой, уже наполовину облупившейся, истертой живописи, одиноко стоит себе, как свидетель давней панской славы и произвола… Не стало бы бумаги описывать все».
Чем ближе к Львову, к сердцу Галиции, земли единокровных русинов[12], тем громче звучит в письмах голос Лысенко-этнографа.
«Оставалось 8 миль до Львова, и я боялся пропустить вечерний поезд до Кракова. Я присматривался к нашему галичанскому люду. Мужчины…особенно молодежь, довольно рослый, статный народ с длинными волосами, падающими на плечи…
Уже под самым Львовом и в Львове я встречал парубков в необыкновенно редком костюме — весь синий с красными отворотами, вырезками, с зубцами и проч., а также в голубых шапочках — низеньких, на манер скуфеек, но со сглаженным дном».
В самом Львове новые наблюдения — и горечь, боль, вызванная онемечиванием древнего украинского города.
«Тут царство объявлений, афиш, всевозможных анонсов, продажа газет, фотографий разных видов. Во Львове только немецкие да польские надписи и вывески, русинской, к сожалению, я сам не видел ни одной. Языка нашего в публичных местах тоже не слышно. Видно, гонение сильное».
Из Львова Лысенко уже поездом, впервые в жизни, отправился через Краков, Бреславль, Дрезден в Лейпциг.
На границе с Пруссией в ревизионном отделении распаковали его чемодан, осмотрели, — «прусский воин минами потребовал от меня взятку, что я и сделал, и за это наклеил марку ревизионную на мешок, не осматривая его… Тут уже исчезает польский язык — аминь! Все и говорит и молчит по-немецки… Порядок во всем».
Все здесь ново, все интересует. Наблюдательный глаз замечает и «тщательно обработанные поля», и «великолепные дороги и шоссе и заводы». Их по всей дороге столько, «что вся местность кругом как бы застлана туманом от дыма. Только и видишь — домики, дома, домищи и трубы, трубы высочайшие — все фабрики!»
Дрездена Николай Витальевич не осматривал: так хотелось поскорее добраться до места. И вот 26 сентября 1867 года он уже в Лейпциге, а 5 октября — ученик консерватории.
Сначала положение нового студента было весьма грустное — от неуверенности в сколько-нибудь сносном знании немецкого языка. Совестно было даже выходить из своей комнаты: вдруг портье или какой-нибудь слуга обратится с предложением услуг. «Фразу-то сплесть я чувствовал в себе возможность, — жаловался он родным, — но понять это певчее, канальское саксонское наречие при быстроте их разговора — я просто терял веру в возможность достигнуть этого когда-нибудь. Англичане, хоть ты их зарежь, не будут иначе говорить, как по-английски где бы то ни было. До чего этот уважаемый народ сумел высоко поставить себя среди других национальностей и заставить уважать свой родной язык, что даже в консерватории для них был переводчик речи… Нам, не знающим немецкого языка или плохо его понимающим, переводил один из ассистентов на французский язык…»
Но свет не без добрых людей, и на помощь студенту пришел кастелян консерватории. В сопровождении его и совершил Лысенко свой «первый выход» — на концерт оркестра.
«На эстраде, увитой цветами, — записывает Николай Витальевич, — располагается 40 или 50-душный оркестр, отлично все исполняющий. Но что меня поразило: вхожу в залу, мест нумерованных и чинно в ряд расставленных не вижу. Вижу мириады людей, дам, девиц и проч., сидящих за столами и едящих, пьющих и курящих. Представьте, как я разочаровался. Эта шельмовая публика (правда, все исключительно купечество. Да тут, в Лейпциге, собственно, и нет другого сословия, разве в новом городе через реку) ест и пьет и прегромко разговаривает и смеется, когда ей захочется, во время самого исполнения отличных пьес…
Знаете, уровень понимания музыки у нас и тут совершенно один в массе, да у нас чинно слушают подобные вещи, хотя и несознательно, а так принято, дескать».
Тот же ангел-спаситель в облике консерваторского кастеляна познакомил Лысенко с учениками консерватории из России. Среди них грузин — студент Московского университета Размадзе.
«Тут я отвел душу и мог целый вечер говорить, не стесняясь, — делится своей радостью Николай Витальевич. — Мы уже и не разлучались. Каждый божий день виделись, а вечера проводили поочередно».
Показал ему кастелян и музей при консерватории. «Чего я там не видел! Например, факсимиле Гете, Лютера, часть подлинного корана, многие подлинные рукописные памятники 14, 12 столетий и еще глубже. Видел тысячи томов книг в сотнях шкафов и столько редкостей, что и не припомню».
Директор консерватории принял Николая Витальевича «очень ласково» — «говорил со мной с полчаса о моей музыке, о сочинениях…»
Подробно описывает Лысенко свой вступительный экзамен, обстановку, настроение.
«Мы собрались в верхнюю залу, большую, с хорами и эстрадой, с 2-мя фортепиано. Здесь каждую пятницу ученики консерватории играют публично трио, квартеты, соло с оркестром, — вроде недельных концертов и испытаний чисто практических. На авансцене бюст Мендельсона, ученика этой консерватории и так высоко ее поднявшего, что она имеет первое европейское реномэ. Около него по бокам Бетховен, Моцарт, Гендель, Бах, Гайдн, Глюк… Возле меня сидел Рейнеке, знаменитый теоретик и капельмейстер, а по другую сторону доктор музыки Рихтер, замечательный своим учебником гармонии. Я сыграл им Serenade и Allegro giouoso. Рейнеке не дал мне кончить, только выслушал по странице с обеих частей и сказал «гут». А Рихтер, старичок, у которого глубокая ученость даже в лице видна, спросил, в состоянии ли я понимать немецкий язык, чтобы слушать профессора, и знаю ли теорию, — я сказал, что очень мало знаю теорию. Он улыбнулся: «Будет гут. Будем заниматься». И такой внушительный классический тон его речи, медленный, что я все понял».