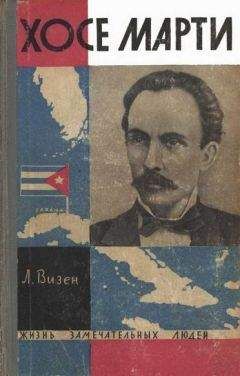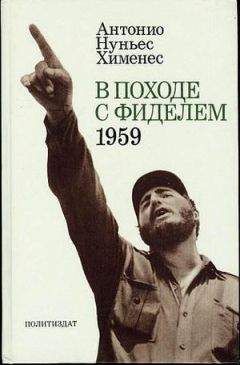Написанный Марти протест кубинцев появился на страницах «Эль Хурадо Федерал»: «Кубинские ссыльные будут знать теперь, что объявивший о конституционных свободах человека Мадрид не лучшее место, где можно вынашивать идеи кубинской революции».
«Ла Пренса» призвала власти предать Марти суду как опасного главаря тайного общества, готовящего переворот.
Марти ответил, что его убеждения уже прошли через самый строгий суд — суд мыслей и сердца. Дон Калисто Берналь с уважением рассказывал всем о Пепе:
— Когда я только познакомился с ним, мне показалось, что огонь его слов слишком силен для такого слабого тела. Но потом я убедился — это не так. А теперь и весь Мадрид может видеть — этот мальчик будет стоить десятерых…
Осенние холода снова уложили Пепе в постель. Он лежал в комнате Карлоса, где с утра до вечера не смолкали шум и гомон. Присутствие друзей бодрило, и Пепе начал потихоньку поправляться, когда с Кубы пришли страшные вести.
Волонтеры схватили в Гаване около пятидесяти студентов-медиков и предъявили им дикое, от начала до конца вымышленное обвинение в «надругательстве над могилой» некоего волонтера Кастаньона, убитого повстанцами годом раньше. Тридцать пять студентов были приговорены к каторжным работам, а восемь их «главарей» расстреляны 27 ноября 1871 года.
Всю ночь Карлос дежурил около Марти, который бредил, метался на постели и звал Фермина Домингеса. Карлос не удивлялся. Он знал, что мятежный друг Пепе учится на медицинском факультете…
Фермин, «давно известный, по выражению прокурора, своими преступными взглядами», чудом избежал казни и оказался в «Сан-Ласаро». Но пока в Мадрид не пришло его первое письмо, Пепе не находил себе места. Простуженный, с пылающим от жара лицом, он обличал произвол Испании всюду, где только находил слушателей.
Чаще всего ему приходилось говорить в кафе. Пепе аплодировали в «Фуэнте де ла Теха», где собиралась студенческая молодежь; встречали презрительным молчанием и смешками в «Иберии», набитой отставными офицерами; забрасывали ехидными вопросами в прибежище закулисных политиков «Суисо»; снова аплодировали в «Хаусе», английской пивной. Что же касается собраний республиканцев в кафе «Ориенталь», Марти не раз оказывался на них подлинным героем дня. Он еще не был фигурой первой величины, как, скажем, старый Берналь, но в его будущее уже можно было поверить.
В полемических битвах зима пролетела незаметно. Приближался торжественный день 2 мая: парады, карнавалы, танцы на площадях. В канун праздника Пепе поспорил с Совалем.
— Я считаю, что нам. нечего завтра делать в Мадриде! — горячился Карлос. — Лучше побродить по лесу, чем слушать, как все вокруг будут орать «Вива Испания!».
— Ты не прав, Карлос. — Пепе говорил негромко, он до сих пор чувствовал себя нездоровым. — Испанский народ празднует в этот день победу над иноземными поработителями. Я думаю, Мадрид поймет нас, если в день 2 мая мы напомним ему о его долге перед нашей родиной…
И утром 2 мая прохожие останавливались под окнами квартиры Марти и Соваля. С балкона свешивалось большое полотнище незнакомого флага: вверху красный треугольник с одной белой звездой, а от треугольника вниз — три синие полосы с белыми полосами между ними.
Какой-то парень, сложив ладони рупором, крикнул с улицы:
— Эй, вы чьи, откуда?
— Мы кубинцы! — ответил с балкона Соваль. — Мы поздравляем народ Мадрида!
— Спасибо!. — ответил парень. — А у вас есть такой праздник?
— Пока еще нет.
— Ну так будет! Да поможет вам бог, ребята!
Кампания за спасение гаванских студентов-медиков все же принесла плоды. После усилившихся протестов за рубежом правительство решило помиловать еще оставшихся в живых и заменить им каторгу ссылкой. Прямо из каменоломен Фермина и его друзей отправили в Кадис.
В Мадрид Фермин приехал в июле. Он ввалился в комнату к Пепе грязный и небритый, но уже запасшийся целой сумкой всяких вкусных вещей. Он решительно отобрал у Пепе его последние деньги и сунул их в свой довольно толстый бумажник.
— Теперь у нас все будет пополам, как и полагается по законам дружбы, — сказал он Пепе.
Пепе подчинился нехотя. Дружба дружбой, но разве его скудные заработки можно сравнивать с суммами, которые обещал присылать сыну старый сеньор Домингес?
В первую годовщину расстрела студентов на стенах мадридских домов появились листовки, подписанные Фермином Домингесом и высланным вместе с ним Педро де ла Торре:
«…Восемь юных сынов прекрасной земли были похищены неразборчивой смертью… И мы клянемся бесконечной любовью к родине, что будем верны славной памяти погибших…
Рыдайте от страха те, кто помогал убивать!»
Берналь сразу догадался, что подписи под листовкой — лишь маскировка.
— Почему ты и Педро подписали текст вместо Пепе? — спросил он у Фермина.
— Властям, пожалуй, листовка не очень понравится, дон Калисто. А Пепе несколько дней назад перенес еще одну операцию и не выдержит заключения в случае ареста. Мы запретили ему…
Надвигалось рождество, и депутаты испанских кортесов собрались на последнюю сессию 1872 года, чтоб обсудить вопрос о ликвидации рабства в колонии за океаном.
Ссыльные кубинцы очень ждали этой сессии. Они хорошо помнили осенние речи «большого оратора либерализма» Эмилио Кастеляра, в которых тот призывал к отмене рабства. Но надежды на «прозрение» депутатов не сбылись. Сидя в переполненной ложе прессы, Пепе с горечью слушал, как председатель зачитывает резолюцию: «Действия упрямых повстанцев не дают возможности отменить рабство на острове Куба…»
По дороге домой он сказал Берналю:
— Теперь я уверен, что расстрел студентов двадцать седьмого ноября и сегодняшнее голосование — звенья одной цепи. Когда на Кубе было тихо, рабство не отменяли, потому что кубинцы терпели его. После «Клича Яры» рабство не отменяют, потому что кубинцы выступили против него… Испании не нужна свободная Куба, дон Калисто.
— Разве стоит так переживать из-за какой-то резолюции, Пепе? Бог даст, скоро в Испании будет республика, этой королевской говорильне придет конец…
Над монархией действительно собирались тучи. Вслед за мятежами моряков и артиллеристов Мадрид взбудоражило покушение на Амедея. Бедственное положение крестьян придавало особый вес требованиям социальных реформ. Даже крупные дельцы начали благосклонно посматривать на сторонников республики. Почему бы, считали они, и не отведать этого пирога?
Испанский трон превращался в весьма хлопотное место, и 9 февраля 1873 года Амедей Савойский отрекся от короны.