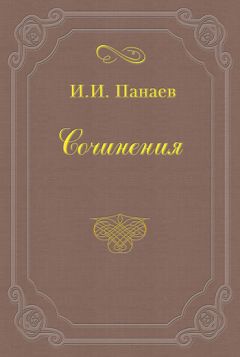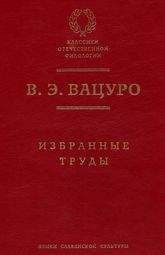Но я зашел слишком далеко и должен обратиться назад.
Гораздо спустя напечатания моей первой повести, однажды часа в три я зашел в книжный магазин Смирдина, который помещался тогда на Невском проспекте в бель-этаже дома лютеранской церкви. В одно почти время со мною вошли в магазин два человека: один большого роста, с весьма важными и смелыми приемами, полный, с рыжеватой эспаньолкой, одетый франтовски; другой среднего роста, одетый без всяких претензий, даже небрежно, с курчавыми белокурыми волосами, с несколько арабским профилем, толстыми выдавшимися губами и с необыкновенно живыми и умными глазами. Когда я взглянул на последнего, сердце мое так и замерло. Я узнал в нем Пушкина, по известному портрету Кипренского.
До этого я нигде никогда не встречал Пушкина. Я преодолел робость, которую ощутил при первом взгляде на этот великий литературный авторитет, подошел к прилавку, у которого он остановился, и начал внимательно и в подробности рассматривать поэта. Прежде всего меня поразили огромные ногти Пушкина, походившие более на когти. Выражение лица его показалось мне очень симпатическим, а улыбка чрезвычайно приятной и даже добродушной. Он спросил у Смирдина не помню какую-то книгу и, перелистывая ее, обратился к своему спутнику с каким-то замечанием. Спутник, заложив руку за жилет, отвечал громко, не смотря на Пушкина, и потом, с улыбкою обратясь к Смирдину, начал с некоторою торжественностию:
К Смирдину как ни придешь…
и остановился.
Смирдин заюлил и начал ухмыляться. Пушкин взглянул на своего спутника с полуулыбкою и покачал головой. Я думал, глядя на господина с рыжей эспаньолкой: «Счастливец! как он обращается с великим человеком. Кто бы это такой?»
С этим вопросом обратился я к Смирдину, когда Пушкин вышел из лавки.
– Это-с С. А. Соболевский, – отвечал Смирдин, – прекраснейший человек и друг Александра Сергеевича-с… Он пишет на всех удивительнейшие эпиграммы в стихах-с.
После я уже узнал, что стих, произнесенный Соболевским у Смирдина, был первый стих известного экспромпта Пушкина:
К Смирдину как ни придешь,
Ничего не купишь,
Иль Сенковского найдешь,
Иль в Булгарина наступишь.
Я и не смел думать о знакомстве с Пушкиным, да и какое право имел я на знакомство с ним? Я только завидовал моему приятелю Дирину, который познакомился с ним по случаю своего отдаленного родства с Вильгельмом Кюхельбекером. Родные Дирина получали через III отделение письма от ссыльного Кюхельбекера, в которых всегда почти упоминалось о Пушкине, и Дирин носил обыкновенно эти письма показывать Пушкину. Дирин занимался тогда переводом книжки Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека» и сообщил об этом Пушкину, который одобрил его мысль и обещал ему даже написать предисловие к его переводу.[1]
Дирин был в восхищении от приемов Пушкина, от его приветливости и внимательности. Пушкин действительно, по словам всех литераторов, имевших с ним сношения, был очень прост, любезен и до утонченности вежлив в обхождении, никому не давая чувствовать своего авторитета. Якубович гордился тем, что Пушкин всегда выпрашивал у него стихов для своих изданий.
Энтузиазм Дирина к Пушкину доходил до благоговения. Когда какой-то мой перевод стихов Гюго был напечатан рядом со стихами Пушкина в «Библиотеке для чтения», Дирин, уведомляя меня об этом, писал: «Ты пойми, какая это высокая честь. Ты счастливец. Я не знаю, чего бы я ни дал, чтобы видеть имя свое, напечатанное рядом с именем Пушкина».
Через несколько лет после смерти Дирина я как-то завел речь об нем и об его отношениях к Пушкину с П. А. Плетневым.
– А знаете ли, почему Пушкин был так внимателен и вежлив к нему?
– Почему же? Ведь он был со всеми таков.
– Нет, – отвечал Плетнев, – с ним он был особенно внимателен – и вот почему. Я как-то раз утром зашел к Пушкину и застаю его в передней провожающим Дирина. Излишняя внимательность его и любезность к Дирину несколько удивила меня, и когда Дирин вышел, я спросил Пушкина о причине ее.
«– С такими людьми, братец, излишняя любезность не вредит, – отвечал, улыбаясь, Пушкин.»
«– С какими людьми? – спросил я с удивлением.»
«– Да ведь он носит ко мне письма от Кюхельбекера… Понимаешь? Он служит в III отделении.»
«Я расхохотался и объяснил Пушкину его заблуждение».
Дирин, разумеется, ничего не знал о подозрении Пушкина; он пришел бы от этого в отчаяние, но Пушкин после этого обнаружил к нему уже действительное участие, что доказывает и предисловие к его переводу Сильвио Пеллико…
Я следил за литературою усердно, читал от доски до доски все журналы и все отдельно выходившие замечательные литературные произведения. При появлении «Торквато Тассо» Кукольника я пришел вместе со многими в восторг от этого произведения. «Какие колоссальные надежды должен подавать поэт, выступающий с таким произведением!»– говорили тогда в литературных кружках и в обществе.
Петербургская молодежь, занимавшаяся литературой, в высшей степени заинтересована была личностию автора «Тасса». Носились слухи, что он привез с собою множество удивительных произведений, долженствовавших сделать переворот в русской литературе.
– Хочешь ли познакомиться с Кукольником? – сказал мне однажды один из моих приятелей, Ф. Т. Фан-дер-Флит. – Завтра вечером он читает у Гижилинского свою новую драму. Приезжай ко мне. Мы поедем вместе. Я тебя познакомлю с Гижилинским, а Гижилинский познакомит нас с Кукольником. Говорят, новая драма Кукольника – чудо!
Нечего говорить, с какою радостию я принял это предложение.
Вожделенный вечер наступил.
В 7 часов мы были у Гижилинского.
Через полчаса явился поэт.
В это время еще он имел некоторое сходство с тем идеализированным портретом, который впоследствии был сделан Брюлловым. На нас произвела сильное впечатление его сухощавая и длинная фигура, его бледное и продолговатое лицо, черные задумчивые глаза и какой-то особенный тон, который казался нам пророческим. При этом Кукольник говорил по – печатному на букву о, что придавало особенную вескость и торжественность его словам.
Слушателей собралось человек десять. Гижилинский всех нас представил поэту. Кукольник каждого из нас обнял и поцеловал.
– Господа! – произнес он, – от души рад с вами сблизиться. Вы любите и чтите искусство, а искусство – моя святыня, которой я обрек себя на служение. Все любящие искусство близки мне – следовательно, хотя я вижу вас в первый раз, но уже считаю вас как бы родными и близкими себе.
Кукольник вскоре приступил к чтению «Руки всевышнего», заметив, впрочем, что он не считает эту драму лучшим своим произведением; что у него задуман целый ряд драм из жизни итальянских художников, требовавших огромной эрудиции, из которых одна – «Джулио Мости»– приведена почти совсем к окончанию, и что это его любимое, задушевное произведение.