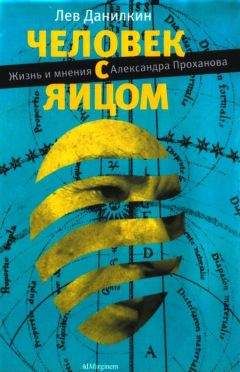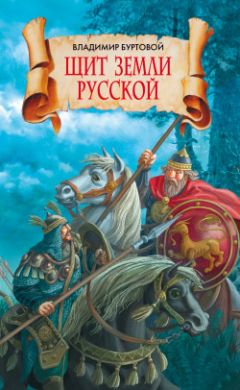Мир нарушенных таксономий, где Андропов в самом деле принадлежит к классу белок, а Латынина — к гарпиям, мы и называем галлюцинозом, поскольку, несмотря на все уверения автора, мы, конечно, не верим, что такой мир может существовать где-либо, кроме сознания А. А. Проханова. Вопрос в том, отличается ли прохановский галлюциноз от других.
Обычный художественный галлюциноз (возьмем «Мифогенную любовь каст», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе») — это всего лишь индивидуальное или коллективное бессознательное, проявившееся в тексте. Автор транслирует галлюциноз, чтобы косвенным образом сообщить о внутренних психических противоречиях визионеров. Прохановский галлюциноз не дает информации о диагнозе визионера — главного героя, он направлен не на него, а на реальность. Этот галлюциноз имеет целью преобразовать реальность за счет разрушения обычных, рациональных таксономий, и введения новых. Герой — живой духовидческий аппарат, излучающий галлюциноз направленного действия, техническое устройство, которым можно управлять и с помощью которого — преобразовывать реальность. Вот как описывается в «Последнем солдате империи» одна из советских военных машин. «Упрятанная в военный камуфляж, облаченная в уродливые формы ромбов и параллелепипедов, она была готова к чуду преображения, к дивной красоте, божественному промыслу, замыслившему земную жизнь как неуклонное приближение к Раю». «Мегамашина чавкала огромными стальными зубами, изжевывала границы, надкусывала страны, прогрызала в континентах коридоры и дыры, запуская в них огненного змея войны. Она владела миром, смещала его утомленные оси, сшибала армии, сталкивала небесные армады, наполняла лазареты тысячами истерзанных и обгорелых людей. Мир был огромной грязной простыней в ее стальных кулаках. Скручивался в жгут, выжимался, отекал расплавленной сталью и красной горячей жижей».
Инстинктивный интерес Проханова к метафоре связан с тем, что метафора — это ведь и есть в своем роде преодоление реальности, нарушение одних таксономий за счет других, мгновенное преобразование мира, объективной реальности, преодоление текущего состояния мира — собственно, прохановские метафоры позволяют не столько больше понять об объекте, сколько — изменить мир. Ну или, по крайней мере, расшатать его.
«Галлюциноз» — нагромождения реализованных метафор — объясняется, тем, что он не знал, как еще можно было изменить восприятие путча в массовом сознании, и прибегнул к собственному «оргоружию» — метафоре. Прохановские «галлюцинаторные романы» — это и есть практика преобразования природы. Каждый роман — машина, вырабатывающая новые таксономии, указывающая объектам их новые места в мире, преобразующая историю, время, пространство, преодолевающая наличное состояние реальности.
Один из финалов «Последнего солдата империи» — травестированный: из города, по приказу памятника Сталину, эвакуируются, уходят советские каменные командоры — Маркс с Энгельсом, Ленины, Рабочий и Колхозница. Так, комически-наглядно, заканчивается эпоха.
Мне 22 августа припоминается по концерту у Белого дома, где прекрасное ощущение переломившейся эпохи не мог обезобразить даже козлом скакавший Газманов, но, по мнению моего собеседника, «ситуация после ухода танков из Москвы 22-го числа была ужасная. Был нанесен метафизический удар по всем консервативным силам». «У меня было полное ощущение того, что в Москву влетело огромное количество злых духов, которые носились над площадями, усаживались на фонарные столбы, били перепончатыми крыльями в окна домов, выклевывали глаза. Было ощущение, что открылась преисподняя, и весь ад оттуда вышел, и этот ад победил танки Язова, спецназ, сломал волю грозных партийцев. Я лично пережил гигантский, может быть, самый сильный в своей жизни психологический удар; моя психика, моя этика, моя физиология приняли страшное давление, я думаю, примерно то же самое, наверное, могли чувствовать люди 37-го года, когда машина власти была направлена против них, они чувствовали себя обреченными, беспомощными, им не на кого было опереться. Во мне воскрес этот социальный страх, я был абсолютно диффамирован, я ждал ареста, прессинга. Бесы гнались за мной, они требовали моей казни. Я не забуду эти голоса мегафонные, которые были на площадях, там кричали: „Повесить Проханова…“. Это был страх ада».
22 августа он проводит в четырех стенах в состоянии полнейшей депрессии. Власть окончательно перешла к Ельцину, по телевизору транслируется съезд народных депутатов, появляется информация о застрелившемся Пуго и повесившемся маршале Ахромееве. За «парапсихологическим ударом» по ГКЧП, как он понимает, стоит А. Яковлев, «талантливый пропагандист, оснащенный новыми технологиями, которым он научился в Колумбийском университете». Когда информационные сообщения заканчиваются, по всем каналам непременно показывали самого Проханова: «Я сидел в белом костюме и славил, радовался пролитию крови этих младенцев. Представляете, как мне весело было смотреть этот сюжет — меня там представляли палачом, Кальтенбруннером, радующимся гибели этих троих героев». Ему приходит в голову, что надо избавиться от документов, которые могут скомпрометировать его или знакомых в случае обыска. Сложив в унитаз кипу бумаг, он поджигает их. Листы тут же вспыхивают, он входит во вкус, температура зашкаливает далеко за 451 по Фаренгейту, раковина раскаляется и лопается. Несгоревшие бумаги размокают, частицы пепла выливаются вместе с водой наружу, квартиру начинает заливать, все это также не улучшает его настроение. В этот момент раздается звонок телефона — это был корреспондент «Комсомольской правды» — и пока жилец квартиры 78, по адресу: ул. Горького, 19, чертыхаясь, шлепает по лужам к аппарату, скажем, что коммунальная катастрофа ничему его не научила: в октябре 1993-го он опять будет жечь бумаги все в том же мангале, и опять этот чертов унитаз расколется.
Интервью, опубликованное в «КП» 3 сентября 1991 года, называется «Пропади она пропадом, эта свобода!» «Александр Проханов, один из авторов „Слова к народу“, готов снова подписаться под этим обращением». Проиллюстрировано интервью почему-то не портретом автора, а фотографией истеричной бабы, как иконой загораживающейся, вот уж совсем странно, газетой «Советская Россия».
«Видимо, — вспоминает Проханов журналиста, — он был послан своей редакцией, чтобы отпраздновать победу надо мной, показать посаженного на игольную булавку жука — черного, сдавшегося, раскаявшегося. Вместо этого я пошел ва-банк, дал ужасное интервью, сказал, что я их всех ненавижу, что это губители страны, что я до сих пор с ГКЧП, что да, я отстаиваю свои идеалы». Ничего такого уж чудовищного в интервью на самом деле нет. Он рассказывает о своих впечатлениях от баррикад, сообщает, что только что закончил роман про то, как спецназ штурмовал дворец Амина… «Прошел слух, будто в режиме ГКЧП вы должны были войти в цензурный комитет?» — «Я думаю, что те, кто читал мои работы, будут кататься со смеху от этого злокозненного слуха. Я всегда отказывался от всех постов и никогда не вступал в партию, неужели я согласился бы быть цензурным палачом печати?». Однако — при таком названии и в отсутствие других оппонентов новой власти — оно произвело-таки впечатление. Об эффекте этих интервью хорошо сказано Дугиным: «И когда уже стало ясно, что все кончено, что вот-вот вернут из Фороса могильщика последней империи, на тухнущем экране появляется знакомое лицо Проханова. Под свинцовой плитой вздыбившихся сил распада и смерти, празднующих мстительную победу, Проханов отчетливо и мужественно произносит слова спокойного самоприговора. Он полностью оправдывает ГКЧП, во всеуслышание обреченно и собранно произносит роковые слова. На нем сходится пульс исторического достоинства. В этот момент он совершает редчайшее действие, на которое мало кто способен. Он продолжает сохранять верность тому, что со всей очевидностью и фатальностью проиграло. Он утверждает на практике высшее качество человека — идти против всех, когда ясно, что этот путь обречен. Такого жеста я в своей жизни не видел. Он встал лицом к лицу с историей, с ее страшной, свинцовой мощью, и спокойно сказал, что не согласен с общеочевидным ходом вещей. Так можно поступить только находясь в духе. Он остался последним на последнем рубеже. Позади зияла пропасть. <…> Проханов, певец Системы, остался верен Системе даже тогда, когда она рухнула. На это не способен ни один конформист, это противоречит самой логике Системы, основанной на абсолютизации сиюминутного, на полной покорности социальному року, на шкурности и имитации, которую мы имели случай созерцать последние годы в небывалом объеме. Но тем фактом, что нашелся кто-то один, кто сказал „нет“, было доказано, что в защищаемом уходящем строе было иное содержание и иной смысл, нежели банальности бесхребетной массы жадных аппаратчиков, готовых служить кому угодно. Поступок Проханова в августе имел важнейшее историософское содержание, поскольку его отсутствие или наличие имеет прямое отношение к постижению логики идеологической истории».