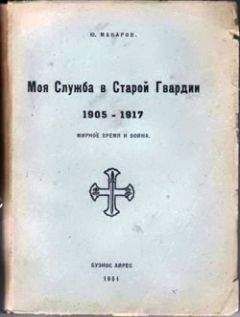Получив ответ, что экипаж высылается, Я–вич и С–в начали собираться. Их план был обдуман заблаговременно и заключался в том, чтобы в экипаже, с верным человеком, выехать как будто в Балаклаву, а в действительности — в Ялту, благо пароль был известен и пост на Балаклавском шоссе был составлен не из матросов.
— Одевайся скорее, — торопил меня Я–вич, — едем вместе…
— Поезжайте, — обратилась ко мне его жена, уже заплаканная и трясущаяся, — ведь только так и спасетесь…
— Нет, мои дорогие, — ответил я, — мне невозможно ехать с вами. Завтра в Керчи узнают о резне, и что тогда будут думать и переживать у меня дома А ведь если я поеду с вами, то как я попаду в Керчь из Ялты. Я иду на вокзал, попробую счастья уехать поездом.
Долго отговаривали меня мои друзья, но я решил не сдаваться. Скоро внизу загремели колеса экипажа, проводил товарищей, расцеловались, благословили друг друга, и они поехали на Балаклавскую дорогу, а я, имея в руках узелок с погонами, орденами, шпорами и кокардой, разными проулками отправился на вокзал.
Было около десяти часов вечера. Морская, по которой недавно еще шли толпы, была совершенно пустынна — стрельба, видимо, шла на горе, на Чесменской и Соборной улицах, где жило много офицеров.
В это время показался трамвай, также почти пустой. Я, решив проехать сколько возможно, вскочил в вагон, и он, видимо последний, быстро покатил меня к вокзалу.
В открытом вагоне сидело несколько баб, два–три матроса и двое в солдатских шинелях.
— Что‑то делается, ужасы какие, — сказала более пожилая баба, — грехи какие надумали матросики — офицеров убивать…
— Да, грехи, — резким голосом отозвалась помоложе, — всех их сволочей убивать надо с их девками и щенками. Мало они с нас крови выпили… Пора и простому народу попользоваться.
Матросы поддержали, и скоро уже все сидящие в вагоне совершенно сошлись во мнениях и приветствовали убийство, а я, в пылу криков, ругани и всяких пожеланий, боясь нежелательных последствий, встал на площадку, куда скоро пришел один из солдат (возможно, он был офицер, да мы боялись друг друга).
Трамвай шел быстро, не останавливаясь ни на разъездах, ни на местах остановок. На Нахимовском, около Северной гостиницы, я видел небольшую толпу матросов, которая, бешено ругаясь, стреляла в лежащего на тротуаре. Сердце замерло от жалости, но мы уже пронеслись… Такая же сцена у Морского собрания, еще несколько стрелявших групп по Екатерининской, и трамвай выкатился на вокзальный спуск, где все было тихо, в бухте спокойно горели огни на кораблях и даже, как ни странно, — где‑то били «склянки». Ничто не указывало на грозный час, кроме выстрелов в городе и около вокзала, откуда доносился какой‑то рев.
Постепенно пассажиры примолкли, бабы сжались, притихли, побледнели и даже начали креститься, матросы соскочили около железнодорожного переезда на Корабельную и пропали в темноте, и в вагоне осталось лишь несколько человек.
Вот и вокзальный мост, поворот, и трамвай сталь медленно спускаться. Стоявший около меня человек в солдатской шинели соскочил и бегом направился к вокзалу. Кто‑то крикнул «Стой!», раздалось несколько выстрелов, и бегущий упал…
Я встал на остановке. Вся небольшая вокзальная площадь была сплошь усеяна толпой матросов, которые особенно сгрудились правее входа. Там слышались беспрерывные выстрелы, дикая ругань потрясала воздух, мелькали кулаки, штыки, приклады… Кто‑то кричал: «Пощадите, братцы, голубчики…», кто‑то хрипел, кого‑то били, по сторонам валялись трупы — словом, картина, освещенная вокзальными фонарями, были ужасна.
Минуя эту толпу, я подошел к вокзалу и, поднявшись на лестнице, где сновали матросы, попал в коридор. Здесь бегали и суетились матросы, у которых почему‑то на головах были меховые шапки «нанесенки», придававшие им еще более свирепый вид. Иногда они стреляли в потолок, кричали, ругались и кого‑то искали.
— Товарищи! Не пропускай офицеров, сволочь эта бежать надумала, — орал какой‑то балтийский матрос во всю силу легких.
— Не пропускай офицеров, не про–пу–скай… — пошло по вокзалу. В это время я увидел очередь, стоявшую у кассы, и стал в конец.
Весь хвост был густо оцеплен матросами, стоявшими друг около друга, а около кассы какой‑то матрос с деловым видом просматривал документы. Впереди меня стояло двое, очевидно, судя по пальто, хотя и без погон и пуговиц, — морские офицеры.
Вдруг среди беспрерывных выстрелов и ругани раздался дикий, какой‑то заячий крик, и человек в черном громадным прыжком очутился в коридоре и упал около нас. За ним неслось несколько матросов — миг, и штыки воткнулись в спину лежащего, послышался хруст и какое‑то звериное рычание матросов… Стало страшно…
Наконец я уже стал близко от кассы. Суровый матрос вертел в руках документы стоявшего через одного впереди меня.
— Берите его, — проговорил он, обращаясь к матросам.
— Ишь ты, втикать думал…
— Берите и этого, — указал он на стоявшего впереди меня. Человек десять матросов окружили их… На мгновение я увидел бледные, помертвелые лица, еще момент, и в коридоре или на лестнице затрещали выстрелы…
На что надеялся я — сказать трудно. В этот момент, протягивая свои документы матросу, я уже видел себя убитым, ясно почувствовал смерть и мысленно простился с семьею… Масса мыслей промелькнула в голове, ноги похолодели, и ярко запечатлевалась в мозгу каждая мелочь…
— Бери билет, чего стоишь. Да бери, что ли! — услышал я грубый оклик под ухом.
Я взглянул на матроса: полное равнодушие было написано на его лице, выражавшем только скуку и утомление.
— Эй! Документы‑то возьми, — сказал он, когда я сделал шаг к кассе, и сунул мне в руку удостоверение, где были указаны чин, должность и фамилия.
Я, почти ничего не сознавая, назвал Керчь, получил билет, вышел в коридор, где бесновались матросы, кто‑то отворил тяжелую дверь, и я оказался на перроне. Два громадных матроса, вооруженные «до зубов», с винтовками наперевес бросились ко мне, но вид билета в руках их успокоил и, вспомнив мать, кровь, душу и пр., они отошли.
На платформе почти никого не было. Я подошел к ближайшему вагону и с трудом пробрался в коридор. Вагон был набит битком, и как ни странно, но почти вся публика состояла из матросов, солдат и простонародья. Двигаясь сквозь толпу, я как‑то пробрался к окну, кто‑то подвинулся, и я сел, все еще мало сознавая, что — спасен, что сейчас уеду и кровь, смерть и все ужасы останутся позади.
Паровоз свистнул, и поезд медленно двинулся. Кругом говорили только о резне. И в этой массе матросов, солдат и рабочих не было ни одного, кто бы не осудил зверство, кто бы не сказал, что такое убийство безбожно и недопустимо. Тогда легче стало на душе.