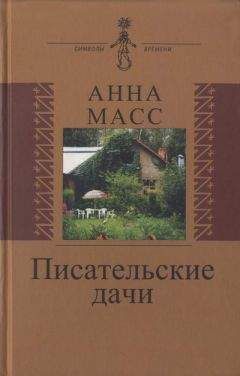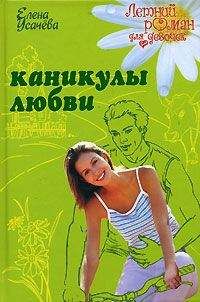По возвращении мы разбредались по своим семьям. Я — к Вите и детям, Лёня — к своей очередной жене — он их в те годы менял довольно регулярно, ухитряясь при этом проводить вечера в ЦДЛ с друзьями. Наши дружеские отношения угасали — до следующей поездки. При встречах радовались, говорили общие слова — и расходились. Тяги не хватало, чувства необходимости. Снова ущемление и неприкаянно чувствовала я себя в писательской среде, плотной и отталкивающей, как вода Мертвого моря. Хотя всегда можно было пойти в ЦДЛ на интересный концерт, выставку, хороший фильм. В уютном кафе со стенами, разрисованными дружескими шаржами, исписанными автографами знаменитостей, просиживали вечера завсегдатаи клуба, пили, шумели, ссорились, рассказывали анекдоты. Они тут были свои. А меня строгие церберши при входе в Дом литераторов демонстративно каждый раз не узнавали и требовали предъявить писательский билет. Нюхом чуяли, что я тут «не своя».
Чтобы стать «своей», мне элементарно не хватало времени. То и дело приходилось пропускать какие-то интересные или важные литературные мероприятия, где можно было бы при некотором старании обратить на себя внимание тех, от кого что-то зависело в моей литературной карьере. Из двух необходимостей — литературное вращение и семья — важнее, как правило, оказывалась семья со школьными родительскими собраниями, проверкой уроков, болезнями, стоянием в очередях, стиркой, готовкой и прочими домашними радостями. Итак я жертвовала семьей, разъезжая по выступлениям и командировкам.
Какие там посиделки в Доме литераторов. Посидеть бы спокойно над рукописью, пожить часа хоть три в день в свободном пространстве, чтобы никто не мешал. Эти утренние часы за письменным столом, когда дети в школе, родители на даче, муж на работе, были, пожалуй, единственными, только мне принадлежащими часами. Я садилась за письменный стол и благоговейно погружалась в свой мир. Но часто, в тот самый миг, когда хрупкая мысль только-только сформировалась в нужную фразу и остается лишь записать ее, вдруг раздается телефонный звонок:
— Анна Владимировна? Это завуч! Ваш Андрей взорвал в туалете «дымовушку»! Нет, это не просто хулиганство! Это осознанное вредительство! Советую вам немедленно прийти в школу, иначе мы вызовем вас на педсовет и проведем показательный суд!
И не записанная мысль растворяется в воздухе, надо бежать в школу выручать сына.
Или подруга (хотя умоляю всех знакомых не звонить мне до двух):
— Ой, ты работаешь, прости, я забыла! Я только хочу спросить…
И прощай творческий настрой.
Но изредка случались периоды, когда никто не болел, ничто не мешало, и до прихода детей из школы оставалось время поплавать в бассейне «Москва», а на обратном пути обдумать завтрашний кусочек, и тогда мне казалось: вот оно — счастье. Не важно, опубликуют то, что я пишу, или нет. Опубликуют — радость. Но радость — категория куда меньшая, чем счастье. Радость, так же, как и смех — по Шопенгауэру, — всего лишь разменная монета счастья. Поэтому, если не опубликуют — меня лишат только радости, а счастье творчества останется.
Не исключено, что эта сомнительная философия возникла еще и потому, что я имела возможность работать не ради куска хлеба. Мы с Витей не бедствовали, а главное, знали, что в случае нужды — родители с радостью помогут. Так уж сложились обстоятельства, мне просто повезло. Но и лишило меня инициативы, выработало жизненный принцип — плыть по течению, жить так, как жизнь «везет», всё и так исполнится. А не исполнится — значит, к лучшему.
Как ни удивительно, многое исполнялось, хотя всегда позже, чем этого хотелось бы. Так, в конце концов, было опубликовано всё, что много лет пролежало в моем письменном столе. Но это случилось уже в девяностые, в эпоху «гласности», когда Берлинская стена пала, когда на страницы журналов хлынул поток ранее «не проходимой» литературы. И в этом потоке мои повести мелькнули, мало кем замеченные.
Но иногда быт заедал до такой степени, что я впадала в несвойственное мне болезненно-мрачное состояние. Так было вскоре после Германии, в 73-м и, особенно, после смерти мамы, в 77-м. И оба раза Витя брал на себя ответственность за моего отца и детей и отправлял — нет, не в Дом творчества, где я двадцать четыре дня была бы окружена все теми же отчужденными писательскими физиономиями, а к своим ребятам, в геологическую партию на полевой сезон, месяца на три, а то и больше, в тайгу.
И тайга меня вылечивала.
«Надо всячески избегать непрерывного давления на психику, необходимо „отпускать“ человека, как отпускают сталь, чтобы не сделать ее слишком хрупкой. Так, надо „отпускать“ женщин, постоянное психическое давление забот на которых ведет к истеричности и поступкам низкого морального уровня».
Иван Ефремов. «Лезвие бритвы».
В горах иное понятие о расстоянии. Какие-нибудь сорок метров подъема даются тяжелее нескольких километров ровной дороги. О, этот микромир напряженных шагов вверх по крутому склону, когда ты уже совершаешь труд, но это еще не работа, а только «подход» к ней. Сейчас еще я могу обойти наиболее крутой участок зигзагами, облегчив себе путь, а когда начнется работа, надо будет идти так, как диктует профиль. Сейчас еще магнитометр у Сашки, моего напарника, и я могу позволить себе поскользнуться на осыпи и съехать вниз на животе, а потом, цепляясь обеими руками за корни, всползти обратно. Но вот идущий впереди Сашка останавливается у начала профиля и передает мне магнитометр. Я устанавливаю треногу над первым пикетом и беру первый отсчет.
Профиль тянется на километр. Когда я ставлю, вернее ввинчиваю, ногу в мелкую сыпучую гальку, подтягиваю другую (а в руках дорогостоящий прибор, который должен постоянно быть в вертикальном положении), когда, едва сохраняя равновесие и стараясь не смотреть вниз, чтобы не закружилась голова, и вверх, чтобы не пасть духом при виде крутизны, на которую мне еще лезть и лезть, балансирую на каком-нибудь выступе, в голове моей возникает трезвая мысль: на кой мне всё это надо? Мать двоих детей, член Союза писателей карабкается куда-то вверх с тихим матом сквозь зубы, останавливается через каждые несколько шагов, приникает глазом к объективу, крутит какие-то винты, диктует студенту какие-то цифры, которые ни на чёрта ей не нужны. Солнце палит ее тронутую сединой (крашеную) голову, комары вьются над ней тучей и кусают во что ни попадя… Ну, ладно бы, сопки не такие крутые, или там бурный роман на склоне лет. А то ведь нет! Так ради чего же?!
Это из меня выплавляются городской жирок, физическая растренированность, тяготение к телесной праздности как к отдыху от городской нервотрепки. Сойдет сто потов, тело станет сухим, легким и послушным, дыхание глубоким и спокойным, и я уже не стану задавать себе этого вопроса.