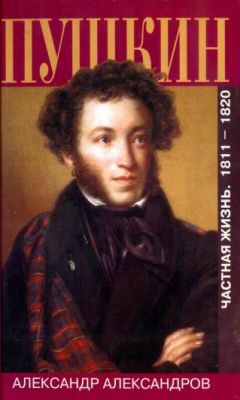Тосковал он на даче Киселева, в которой княгиня занимала весь нижний этаж, а кабинет князя был наверху. Впрочем, дачей Киселева ее называли скорее по привычке. Несколькими дачами в Гомбурге владела Софья Станиславовна Киселева, урожденная Потоцкая, с которой сам Павел Дмитриевич Киселев, граф, бывший министр государственных имуществ, теперь уже покойный, окончательно разъехался еще в начале тридцатых годов.
С тех пор она проживала за границей, то в Бадене, то в Ницце, то в Париже, где у нее была собственная квартира, но каждое лето проводила в любимом Гомбурге, с одиннадцати часов утра до одиннадцати вечера играя в рулетку и покуривая испанские пахитоски, модные тогда длинные соломинки, набитые табаком, пока наконец рулетку, как и на других немецких курортах, в Гомбурге не запретили. Некогда она была красавицей, ее сравнивали с французской актрисой Рашелью, на которую она была похожа чертами лица. Князь Вяземский был влюблен в нее еще до замужества, встречал ее во время службы своей в двадцатых годах в Варшаве, писал ей мадригалы, называл ее «похотливой Минервой». Пушкин, как подозревал князь, тоже был тайно влюблен в нее в Петербурге. Кажется, стихотворение его «Платонизм» — о ней, и уж не она ли и ее сестра Ольга вдохновили Пушкина написать свой «Бахчисарайский фонтан»? Есть в письмах его некоторые намеки на это, есть и намеки на то, что именно эту любовь он утаил от публичности.
Полька по происхождению, она стала политическим противником собственного мужа, верного государственного мужа российского, брат ее Мечислав был сослан в Сибирь в 1845 году, что окончательно сделало ее врагом России. За границей она плодила незаконных детей Киселеву от своих многочисленных любовников, пользовалась его именем даже и до последнего времени, когда он уже при Наполеоне III завершал свою карьеру в Париже послом, и сдавала в наем соотечественникам принадлежащие ей несколько гомбургских домов. Князь Вяземский имел с ней короткую курортную интрижку, получил по счету за свои варшавские мадригалы, и на всю жизнь они остались друзьями, и всегда, когда князь с княгиней проживали в Гомбурге, дом нанимали у Киселевой.
В свой кабинет на киселевской даче князь почти никого не приглашал, а вечера напролет просиживал внизу у княгини Веры Федоровны в обществе русских дам, приносивших к княгине свои рукоделия. Княгиня полулежала в глубоких креслах с затейливым шитьем в руках или просто с тростью на коленях, с опахалом, с подушками, в старомодной чепце, который она иногда снимала среди оживленного разговора, полная юношеского пыла, неподдельной веселости и остроумия. Князь любовался ею, как во дни молодости.
Случалось, в Гомбург приезжали его сын Павел и шереметевское его колено, внучка с правнуками; тогда дом оживлялся детскими криками и начинал теплиться, как любил говорить князь, семейный очаг. С их отъездом печка, по образному выражению князя, замазывалась и стояла холодной.
Будучи членом Государственного совета, сенатором, обер-шенком двора (то есть главным хранителем вин), он искренне любил Россию, но тем не менее жил исключительно по заграницам, постоянно испрашивая себе при дворе отпуск. Словно какой-то бес гнал его по миру, не позволяя нигде задерживаться подолгу. За князем невозможно было угнаться. С тех пор как он передал родное Остафьево единственному сыну Павлу Петровичу, он и в России-то толком не живал. Каждый год — Гейдельберг, Франкфурт, Карлсбад, Веймар, Бонн, потом Париж, Венеция, снова Германия, лишь ко второй половине лета, к осени он затихал, в основном в Висбадене, в Гомбурге или в Баден-Бадене.
Князь Вяземский, как и большинство людей, доживших до его лет, а было ему за восемьдесят, страдал от множества болезней, но более всего бессонницей, что не сделало его характер мягче.
— Я вас понимаю, вы хоть и молодой человек, но очень быстро стали ощущать то, что, честно говоря, давно понимаю я… — говорил князь Вяземский Ивану Петровичу Хитрово на вечернем променаде. — Перебирая свои старые бумаги и старые письма лиц, которых давно уже нет, кажется, мимоходом и снова переживаешь себя самого, всю свою жизнь и все свое и все чужое минувшее. Тут, после давнего кораблекрушения, выплывают и приносятся к берегу обломки старого и милого прошлого. Смотришь на них с умилением, перебираешь с любовью, дорожишь между ними и мелочами, которым прежде как будто не знали мы цены. Предания нередко бывают дороже и выше самих событий… Мелочи быта, я давно это понял, порой вернее характеризуют эпоху, чем эпохальные события… — Князь посмотрел на Ивана Петровича, ища согласия. — Я давно живу одними преданиями, так что могу засвидетельствовать: это жизнь наполненная, почти реальная… Да, прошлое, казалось старое и забытое, может очнуться, стоит только притронуться к нему. Оно будет источником добросовестных изысканий, училищем, в котором новые поколения могут почерпать, если не уроки, не образцы, то предания, не лишенные занимательности и ценности не только для нового, настоящего, но и для будущего… Границы настоящего должны не только выдвигаться вперед, но и отодвигаться назад. Душе тесно в одном настоящем: ей надобно надеяться и припоминать…
— Мне так близки ваши мысли, князь… — искренне согласился Иван Петрович.
— Кому нужны теперь мои мысли? Теперь другие времена… Все считают меня ретроградом… Многие помнят еще, что довольно долго я промышлял делами цензуры, стороною доходят до меня слухи, что в некоторой залихватской печати хожу я под разными прозвищами, забавными и насмешливыми. Как-то в Берлине одна из наших заграничных непризнаваемых знаменитостей, проходя мимо меня, пробормотала: «Вот идет наша русская цензура». А я ведь до цензуры не безусловный охотник, хотя и служил по этому ведомству одно время. Не безусловный поклонник я и безусловных льгот свободной печати. Не следует забывать, что льготы, дарованные печати, не всегда еще открывают путь истинным успехам литературы. Бывает и так, что они только развязывают руки самонадеянным посредственностям. Я давно уже перестал слыть либералом, а по сознанию Белинского, главного основателя, пророка и законодателя нового верования, вся суть литературы заключается в… либерализме! — закончил князь почти весело. — Вот так! А наш либерализм заключался в правилах и чувствах, а не в жаргоне, не в искусственном, поддельном наречии, на котором они пишут и говорят. — Он помолчал. Молчал и ждал Иван Петрович. — Я был ими отпет: кругом могилы моей, в которую меня живого зарыли, глубокое молчание. И что же? А ничего. Натура меня наградила большою живучестью, и телесною и внутреннею… Как говорили в Лицее, а Пушкин любил повторять: «Вы не знаете всех внутренних происшествий»… Нет дня в году, чтобы я три-четыре раза не вспомнил Пушкина. Так что спрашивайте, дорогой мой друг, я вам многое могу рассказать…