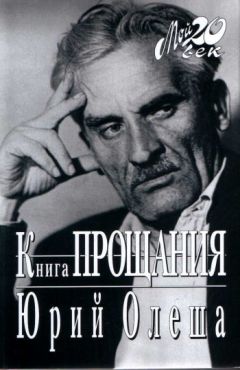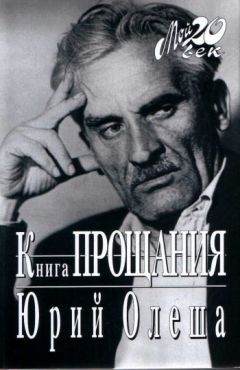Очевидно, она скрывала от сыновей эту свою страсть к композитору. Сыновья были пажи или правоведы, денежные аристократы, ломавшие из себя светских воротил. Один из них впоследствии был расстрелян советской властью за вредительство в большом масштабе на железной дороге.
Он пишет ей письма в полную силу, когда вопрос касается искусства или его собственного творчества, — здесь он неподкупен, гениален, высокомерен, царственен; когда дело касается житейских вопросов, он иногда просто лжив, неблагороден. Мелькает, между прочим, имя Дебюсси, бывшего чуть ли не учителем музыки у этих пажей…
Он ее не уважал. Вообще говоря, поразительно художественно сложившийся материал: у гомосексуалиста поклонница женщина, причем тоже не простое женское поклонение, а именно психопатическое.
И вот сыновья открывают ей глаза: мама, он живет с мужчинами, лакей Алеша — это его плотская любовь, а вовсе не какой-то там удивительный лакей.
Можно представить, какое впечатление произвело на нее это разоблачение. Тотчас же обуглились письма, поскольку проступили все места, где он лгал. Ведь она все же была влюблена в него! В обществе, знала она, «шли разговоры о Чайковском и фон Меккше»… Может быть, ей было как раз приятно, что эти разговоры шли. И вдруг такое посмеяние! Как он лгал, значит, как не уважал ее!
Она ему отказала в поддержке; разом окончилось всякое ее вмёшательство в его жизнь: виллы за границей, Браилов и т. д. Она объяснила это изменение тем, что она разорена… Он рассердился, начал обливать ее грязью.
— Неправда! — восклицал он. — Разорена? Неправда! С обычной точки зрения она еще феноменально богата!
И называл ее гадиной.
За что?
Скажем, что и она не слишком права, отказав ему в поддержке только за то, что он не совсем нормален в половом отношении. Но у нее все же есть элементы душевного краха. У него же — только материальный крах!
Эта история лишний раз говорит о том, с какой незаинтересованностью должны мы относиться к личной жизни художника. В отношениях с фон Мекк Чайковский показывает себя в неприятном свете — это эгоист, неправдивый и, главное, неблагодарный человек. Хорошо, она миллионерша, капиталистка, и, в конце концов, те несколько тысяч в год, которые она тратила на Чайковского, — пустяк; тем не менее она это делала со страстью, с безумьем, придающим ее фигуре все же богатый оттенок. Он не должен был бы чернить ее. Он делает это.
Важно ли нам это, когда мы слушаем рассказ Франчески среди огня Ада? Что из того, что есть порядочные люди? Мне нравится больше Фарината в том же Аду, который, по существу, был бандитом и который на вопрос Данте по поводу тех страданий, которые он переносит в своей огненной могиле, удивленно спрашивает, о каких, собственно, страданиях говорит Данте.
— Я ничего не чувствую, — гордо отвечает великий гибеллин, — какой огонь? Я не вижу никакого огня.
Он не считался с теми угрозами, которыми осыпал его папа при жизни, — угрозами вечных мук в загробной жизни, — и теперь, когда эти муки действительно окружили его, он продолжает не признавать, не видеть их.
Какое царственное письмо написал Чайковский[296] по поводу переложения молодым Рахманиновым для четырех рук «Спящей красавицы»! Он, автор произведения, которое другой автор перекладывает в иную форму, укоряет этого автора в чрезмерном поклонении авторитету (то есть ему самому, Чайковскому), в отсутствии смелости и инициативы. Другими словами, ему понравилось бы, если бы Рахманинов отнесся к его произведению разрушительно!
У Жюля Ренара есть маленькие композиции о животных и вообще о природе, очень похожие на меня.
Когда-то я, описывая какое-то свое бегство, говорил о том, как прикладываю лицо к дереву — к лицу брата, писал я; и дальше говорил, что это лицо длинное, в морщинах и что по нему бегают муравьи.
У Ренара похоже о деревьях[297]: семья деревьев, она примет его к себе, признает его своим… Кое-что он уже умеет: смотреть на облака, молчать.
Мне всегда казалась доказанной неделимость мира в отношении искусства. В разных концах мира одно и то же приходит в голову.
Писать можно, начиная ни с чего… Все, что написано, интересно, если человеку есть что сказать, если человек что-то когда-либо заметил.
Например, я заметил, что когда ешь вишню, то хочешь в ней также и отразиться. Важнее ли мысль Пушкина, скажем, о том, что некоторые приказы Петра написаны не пером, а кнутом, этой моей мысли о вишнях? Думаю, что эти мысли равноценны по затрате на них мозговой энергии. Повлияют ли на будущие поколения строки о Петре в том смысле, что в дальнейшем приказы не будут писаться кнутом? Не повлияют. Таким образом, никакого значения, кроме чисто эстетического, эти строки не имеют. Отсюда их равенство строке о вишне.
Я вовсе не спорю с Пушкиным. Наоборот, я его обожаю. Когда мы ходили детьми в общественный сад, он стоял в нише, еще неизвестный нам как поэт, но уже Пушкин — черный, чугунный, с баками, как я где-то сказал, выпуклыми, как виноград. Хуже ли по историческому значению эти строки о винограде, чем, скажем, строки об «отце нашем Шекспире»? Нет, это то же самое — потому что от них нет никакой пользы, кроме эстетической. Могли бы и не заниматься Шекспиром.
Эти маленькие отрывки — это мое курение. Я пишу их, снимая с машинки листки основной работы, — написав отрывок, вновь вставляю основной листок.
Безусловно, это курение.
Если, впрочем, у них есть литературная ценность, то совершенно все равно, по какой причине они рождаются.
Что такое литературная ценность?
Примитивный взгляд видит большую ценность в «Божественной комедии», чем в стихотворении Верлена. Разумеется, это неверная оценка. Все значительно, что высказано страдающей или ликующей душой поэта, — пусть это будет всего лишь одна мысль, краска, эпитет, фантастический пассаж. Вовсе не дело поэзии давать историю нравов или местности. Я не знаю, что именно дело поэзии. Иногда это песни Петефи, иногда…
Кто-то сказал, что от искусства для вечности останется только метафора. Так оно, конечно, и есть. В этом плане мне приятно думать, что я делаю кое-что, что могло бы остаться для вечности. А почему это, в конце концов, приятно? Что такое вечность как не метафора? Ведь о неметафорической вечности мы ничего не знаем.
Я твердо знаю о себе, что у меня есть дар называть вещи по-иному. Иногда удается лучше, иногда хуже. Зачем этот дар — не знаю. Почему-то он нужен людям. Ребенок, услышав метафору, даже мимоходом, даже краем уха, выходит на мгновенье из игры, слушает и потом одобрительно смеется. Значит, это нужно. Мне кажется, что я называтель вещей. Даже не художник, а просто какой-то аптекарь, за-вертыватель порошков, скатыватель пилюль. Толстой, занятый моральными, или историческими, или экономическими рассуждениями, на ходу бросает краску. Я все направляю к краске.