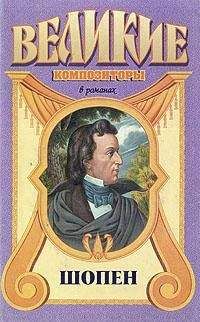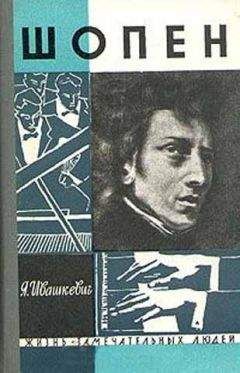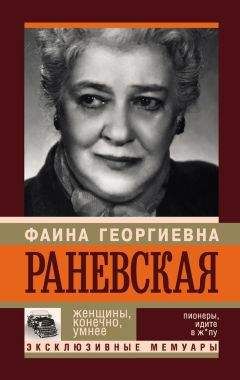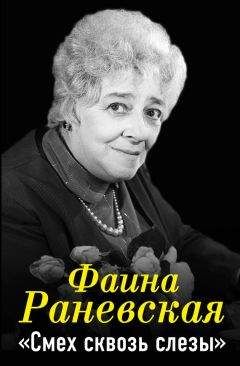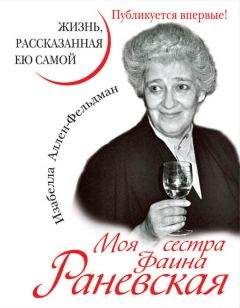Казалось, после Листа фортепиано не могло уже сказать ничего нового. Но мы убедились, что Шопен пошел еще дальше. Мы узнали, какой пленительной и гибкой может быть мелодия, это непобедимое оружие композитора, и как выразительны ее подголоски. Оттого и гармонии Шопена так неожиданно свежи, так близки к народному складу, так изящны! Всюду встает его отзывчивая, гордая натура, всюду чувствуется биение одной мысли, одного стремления. Я знаю это стремление, угадываю эту мысль – увидеть родину счастливой, приблизить этот час.
Для меня – может быть, потому, что я поляк, – дороже всего его полонезы. Они наполнены страстью, неукротимой силой. После нашей трагедии и поругания над нами я не мог бы слушать одну скорбную музыку. Но даже и в скорби Шопен отважен, героичен. И его полонезы вселяют в меня надежду.
Мне вспоминается:
…И над руинами встает заря свободы,
И Капитолий вновь свой купол вознесет,
Когда Народ-король, всей властью облеченный,
Всех деспотов своих на гибель обречет
И новой Вольности в Европе свет зажжет!
… Это Мицкевич. Но это и Шопен.
15 июня
Мне немного совестно за предыдущую страницу. Как будто готовил статью для музыкального журнала или газеты! Да, не мне рассуждать об искусстве! Достаточно, что я люблю его и нахожу в этом утешение.
А что касается той, которую я не могу любить, то скажу одно: если ее имя сохранится в потомстве дольше, чем ее произведения, то лишь по той причине, по какой графиня д'Агу будет известна дольше, чем ее современница, более талантливая, но менее удачливая, чем она, скромная Жанна Лагранж. Увы! Бедная Лагранж не пленила ни одного гения, не вдохновила ни одного героя, и ее скоро забудут… Кароль Липиньский, по-моему, хорошо сказал о Жорж Санд: – Ко всему прочему Шопен подарил ей и бессмертие!
Мне скажут: а Луиза Колле? Ведь она вдохновляла Флобера! А где ее бессмертие? Но Луиза Колле – это не Жорж Санд!
Но все равно, будь эта Аврора хоть гением, я не могу любить ее. Я уже знаю, за что. Она чужда ему, она еще причинит ему массу страданий, я предвижу это! Он еще испытает муку одиночества, потому что они неизбежно расстанутся, не может быть долговечен подобный союз!
Она восхищается музыкой, у нее хороший слух, но она совершенно не умеет ценить музыку Шопена. Для нее это прелестная, нежная музыка изящного Шип-Шипа, ее «маленького», как она его называет. Она находит в этой музыке и хрупкость, и нежность, и тысячу оттенков, переходов, переливов, и уж не знаю что. Она слышит в ней «стоны души, райские мелодии, излияния сердца, которое не смеет жаловаться», и прочее. Но она не слышит, не чувствует мощи, орлиного полета, бурной мятежности, протеста и повелительного воззвания к будущему. Она не понимает, какой могучий дух живет в его музыке, и если бы ей сказали все это, она с удивлением подняла бы свои красивые брови: ее это так же удивило бы, как мысль о том, что он, подобно Бетховену, сильная личность, герой, а не опекаемое дитя.
Она, гордая своим материнским отношением к нему и – кто знает? – может быть, иногда и тяготящаяся этим, не подо треплет, что он в большей степени является опорой для нее!
И как неприятны ее сообщения о том, как Шопен работает! Она рассказывает об этом всем и каждому, все знают, как он сразу находит чудесную мысль, потом отказывается от нее и в поте лица ищет другие, но потом, в конце концов, все-таки приходит к первоначальной. В промежутках между этими находками он бегает по комнате, вздыхает, ломает перья, чуть ли не рвет на себе волосы. Боже мой, неужели муки творчества у самой мадам Санд проявляются так внешне, в беспрестанных движениях? Уверен, что над листом бумаги она не вздыхает, не стонет, не рыдает, а просто пишет. Я по крайней мере не помню, чтобы Фридерик именно так сочинял, как она описывает, а ведь я больше пяти лет жил с ним под одной крышей! Но если даже теперь, под ее влиянием, он стал сочинять так мучительно для себя и неприятно для тех, кто это наблюдает, то зачем это так необходимо стало доводить до сведения всех друзей и знакомых? И через много лет, вероятно, на основе ее воспоминаний появится какой-нибудь «научный» трактат под названием «Как работал Шопен»! Хорошо, если этот труд выйдет без иллюстраций!
…А недавно, говоря о прелюдиях Шопена, в том числе о двадцать четвертой, написанной в Штутгарте в нашем скорбном тридцатом году, она воскликнула!
– От этой музыки так и разит раем!
Вот за что я ее не люблю.
Я не отдаляюсь от него и не прощаюсь с ним. Мы не будем часто видеться, но я остаюсь его другом, как и он моим. Когда я умру, он будет очень горевать. Но, даже не расставаясь внутренне, друзьям порой трудно встречаться. Я не могу видеть его рядом с ней, его, несомненно, огорчает мое невольное отчуждение. Что ж делать? Мы не говорим об этом. У меня много работы, и я насилу справляюсь с ней. У него-много своего. Но у нас остается родина и юность, уже прешедшая, но наша общая и незабываемая. Мы помним об этом – каждый про себя!
Соната си бемоль минор, которую даже Ян Матушиньский называл «загадкой», писалась летом в Ногане, после возвращения с Майорки. Именно потому она н могла показаться загадкой. Счастливый человек не мог бы написать эту музыку. Но было ли возможно полное счастье для Шопена, слишком требовательного к себе и к людям, было ли оно возможно после штутгартских дней и катастрофы тридцать первого года? Есть раны, которые никогда не заживают, и если услыхать в сонате то, что понял в ней Лист, – биографию целого поколения, блестящего и трагического, – то она перестанет быть загадкой. Один из друзей Жорж Санд спросил Шопена по поводу сонаты:– Признайтесь, ведь это автобиография? – Вопрос слишком– прямой! – ответил Шопен. – Могу лишь сказать, что без участия художника произведение искусства не создается!
Сам же он иронически писал о финале сонаты: «левая рука в унисон с правой злословят после марша». Но Ян Матушиньский хорошо знал одно из свойств Шопена – прикрывать иронией свою взволнованность.
То была соната бетховенского склада. Но Шопен не писал еще ничего более романтического, дерзостного. Соната была вся порыв и смятение. Необычайная смелость, с которой он соединял четыре части, казалось бы совсем противоположные друг другу, не могла не потрясти тех, кто привык к сонатной форме. Эти несходные между собой, каждая со своей трепетной жизнью, трагические поэмы были пронизаны одним чувством – напряженной, титанической борьбы. Уже первый аккорд предупреждал об этом. И в то же время резкие контрасты были так закономерны, медленные напевы так значительны и прекрасны, изложение мыслей так убедительно! Все было здесь рождено духом Бетховена. И ничто в отдельности не походило на него. Резкие диссонансы сменяли друг друга, особенно в первой части. И они были необходимы; казалось, самый слух нуждается в них!