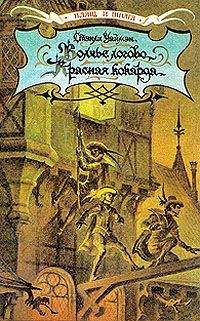А в городе — ветреная приморская весна, и в бухту, зеленую, беспокойную, приплывают кашалоты, весенние гости из океана. Их черные глянцевитые спины бесшумно вырастают над волнами и так же бесшумно исчезают. Кажется, несколько субмарин играют, гоняясь друг за другом… Над морскими же далями появилась голубоватая дымка, и в ней паруса рыбачьих судов призрачны, ирреальны, словно пригрезившиеся: голубоватая тонкая мгла оседает к воде легким слоем тумана, и корпусов судов не видно. Плывут одни паруса, розовые или лиловые.
На эти паруса я и любовался из окна, пригоршнями бросавшего в мое лицо прохладу морского бодрого ветра, когда за моей спиной зазвонил телефон.
— Сергей Иванович, вы? — спросил хриповатый басок.
— Да, — ответил я, не сразу признав голос. — Это вы, Викентьев? Что за хрипота? Пили?
Трубка помолчала. Потом, не отвечая на вопрос:
— Что поделываете?
— Любуюсь морем, — ответил я, настораживаясь.
Трубка кашлянула, вздохнула и с трудом, словно на чужом языке, когда приходится вспоминать нужные слова:
— Знаете, дорогой мой, у меня чума…
Пауза. Мои мысли: «С каждым его выдыханием миллионы бацилл летят в трубку его аппарата… По проводу зараза не передастся. Что ж, побеседуем!»
И я ответил:
— Вы уверены, что у вас именно чума? В мокроте кровь?
— Да. И температура… И выражение глаз, знаете, это специфическое: очумелое.
— Ну, последнее — субъективно! А кровь в мокроте может быть и при других заболеваниях легких.
— Нет, у меня легочная чума.
Между приговоренным к смерти, да еще такой страшной болезнью, и человеком, только что любовавшимся морем, желудок которого мечтает о горячем кофе, уже, наверное, поданном в столовой, — не может быть ничего общего. Первый должен чувствовать ко второму зависть и злобу, возбуждая, в свою очередь, во втором опасение, что он может быть так или иначе втянут в воронку рокового водоворота, на дне которого смерть.
Все-таки я не мог отказать приятелю в двух его просьбах. Я обещал не сообщать властям об его заболевании и дал слово звонить ему иногда по телефону, а также и самому откликаться на его вызовы.
Совершил ли я преступление, согласившись на исполнение этих просьб? Казалось бы, нет. Крошечный домик Викентьева стоял уединенно на вершине одной из сопок, охвативших бухту. Викентьев жил одиноко, теперь же, по его словам, он рассчитал даже китайца-боя.
— Единственное живое существо со мной, — сказал он мне, когда мы кончали разговор, — это мой котенок Нападун. Вы помните его? Серенький, с белым пятном на лбу.
Мое сердце сжала острая боль жалости.
— Бедный мой! — сказал я. — Мне очень жаль вас. Но что бы мне сделать?
— Уж ничего нельзя сделать! — ответил Викентьев. — Вот, будем иногда разговаривать. Это ведь недолго тянется. От двух до пяти дней…
II
Теперь, взявшись за эти записки и с ужасом вспоминая всё что произошло за короткий срок развития событий, я с отчаянием пеняю себе: «Ах, зачем, зачем согласился ты на просьбу человека, осужденного Богом на смерть от ужасной болезни?! Зачем не послушался ты изречения персидского поэта, его стиха, так назойливо звеневшего в твоих ушах всё то утро: “Не приближайся к зараженному смертью!”»
Но… поздно.
Чтобы сделать понятными события, разыгравшиеся в маленьком, зараженном чумой домике Викентьева, я должен сообщить некоторые сведения как о нем самом, так и о других двух участниках трагедии. О себе… о себе я говорить ничего не буду!..
Александр Николаевич Викентьев появился во Владивостоке в 1920 году, пробравшись к нам из Омска, где он служил по охране золотого запаса. Золото было своевременно эвакуировано на Восток и благополучно, в значительной части, дошло до Читы. Кроме одного вагона с монетой (не со слитками), который в дороге был якобы разграблен партизанами, напавшими на поезд. Владивостокские знакомые Викентьева шептались, что деньги, которые он, несомненно, имел (купил домик, не служил, спекулировал на контрабанде), находятся в какой-то связи с участием его в охране золотого запаса и даже, точнее, с разграблением партизанами одного из вагонов с золотом.
Женщина, о которой в моем правдивом повествовании будет неоднократно упоминаться, — Ядвига Иосифовна Быстрицкая, полька, высокая блондинка с глазами, очень близко посаженными к переносью. Кокетливая очень. Говорила с легким польским акцентом.
Муж ее, русский, где-то служил. Видеть мне его пришлось до страшной и роковой для него нашей встречи всего один раз. Что-то очень большое, даже могучее, с громыхающим голосом и буграстым, как у фавна, лицом.
III
Викентьев позвонил мне в четвертом часу дня, когда я только что вернулся со службы. Голос у него — столь же хриплый, но как бы более медленный, чем утром.
Первый его вопрос:
— Как вы думаете, котенок может заболеть? Он всё ласкается ко мне, прыгает, кусает руки. Очень, знаете, жалко будет, если я его заражу…
— Ни в коем случае, — сказал я, успокаивая, хотя вовсе не был в этом уверен.
Словом, мы болтали, и временами я даже позабывал о том, что говорю с чумным. Викентьев жаловался на озноб, головную боль и всё усиливавшуюся слабость. Он говорил, что пьет вино и что оно ему помогает. Я утешал приятеля, как утешают человека, больного инфлюэнцей. Слово чума ни разу не было нами произнесено.
Наконец мною были исчерпаны все вопросы, которые, как мне казалось, я мог предлагать больному. Разговор стал прерываться, чередуясь с паузами, очень тяжелыми для меня, считавшего неудобным первому положить трубку. Не без досады в сердце я подумал: «Если так будет продолжаться три дня, он совсем меня изведет!»
В это время Викентьев сказал:
— Знаете, как это ни дико, но женщина врывается даже к зачумленному.
Его голос звучал глуше, чем обычно. Вероятно, он сделал усилие над собой, чтобы произнести эту фразу.
— Да, да! — уже ровнее продолжал он. — Вы ведь знаете Ядвигу, — мы не слишком скрывали нашу связь. Так вот, сегодня утром, убедившись в том, чем я болен, я, конечно, настолько был потрясен, что совершенно забыл про ее существование. Но она не забыла. Час назад — звонок. В это время Ядя обычно гуляет. Зашла в кондитерскую и позвонила… Вы знаете ее манеру стремительно задавать вопросы:
— Почему вчера не пришел?
— Нездоров.
— Врешь. Где был вечером?
— Дома.
— Врешь. Сегодня придешь?
— Нет.
— Ах так! Ну так я сама к тебе приду, голубчик.
Викентьев замолчал, устав говорить. Я слышал, как он кашлял. Я думал о мириадах бацилл, которые он выбрасывает с каждым харканьем, а в ушах моих звучало: «Ах так!» — растянутое, с польским акцентом, обычное восклицание очаровательной, стремительной Ядвиги Быстрицкой.