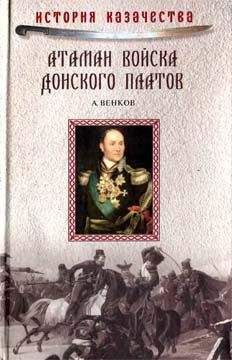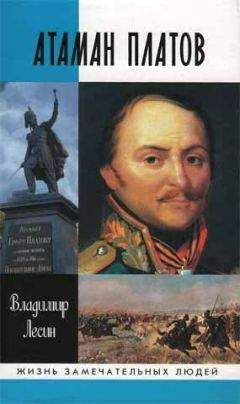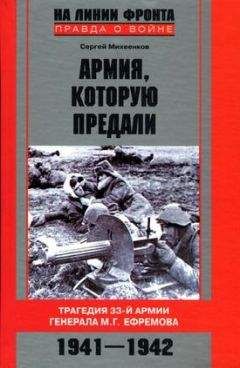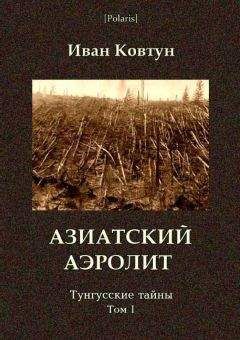Великий Князь, поигрывая желваками, вышел из коляски, обнял атамана, но рапорта не принял: «Это не мое, Матвей Иванович»[169].
Гром пушек, «ура» и неподдельные слезы на глазах у Платова…
Переехали мост, и тут подали наконец Михаилу лошадь под казачьим седлом, как мальчишке, в чьем умении ездить верхом сильно сомневаются.
Далее — собор, протоиерей Иаков с приветствием, войсковые регалии, о которых Платов подробнейше все рассказывал, депутация от донского дворянства, ночлегу Иловайского 5-го.
А с утра — представление генералов и офицеров, собор, Войсковая Канцелярия и Войсковая экспедиция. Выехали за город, там — артиллерийские маневры со стрельбой, учебные сшибки Атаманского полка с другими полками и тут же калмыцкое богослужение с музыкой. Великий Князь вроде подобрел. Вернулись в город, зашли в гимназию, в госпиталь. В 3 часа — обед с витиеватыми речами и песнями, а вечером — бал, весьма прилично открытый полонезом, сиречь «польским».
На другое утро спозаранку уехал Великий Князь под салют в сторону Старого Черкасска. Уехал верхом, в сопровождении всего Атаманского полка. А Платов ускакал вперед и встретил дорогого гостя в трех верстах, на пороге собственной «мызы», хлебом-солью, сын и внук стояли по бокам и держали блюда с плодами из собственного сада.
Завтракали в Старочеркасской, в доме Иловайских, у Иловайского 3-го, Алексея Васильевича, человека тонкого и воспитанного, олицетворявшего донскую родовитость.
Обозрев древнюю донскую столицу, Великий Князь шлюпкой отбыл в Ростов, где ждал его высланный заранее генерал Луковкин. Платов провожал дорогого гостя до Азова.
Вернувшись, сел писать царю, и особо благодетельнице, вдовствующей Императрице Марии Федоровне: мол, был у меня твой младшенький, вел себя хорошо…
Обделав все дела, расслабился, выпил водочки и подмигнул дежурившему в тот день при нем Кислякову:
— Ну, Алешка, идут дела.
— Ты, Матвей Иванович, его прямо как родного сына принимал.
— А как же, — многозначительно усмехнулся Платов.
— Передохнул бы…
— Некогда. Эх, Алешка, мне б еще пять лет!..
— Поберегся бы, — упрямо повторил Кисляков.
Платов молчал, глядел из темной комнаты на вызолоченные сады соседних дач. Считай, еще один год слизнуло.
— Ну, а что казаки промеж себя гутарят?
На всех торжествах шел Кисляков в свите атамана одним из последних, слышал из толпы многое, что до атамана не долетало. Брехать не хотел, обижать — жалко.
— Да ты и сам знаешь…
Платов резко вскинул голову. Кисляков подобрался, по опыту ожидая львиного рыка.
— Знаю, — глухо сказал Платов, — на вас, чертей, не угодишь.
Он сдержался. Или впрямь устал очень. Поглядел грозно и сник незаметно, одним лишь взглядом.
Замолчали надолго. Отблеск садов желтел прощально наемных стенах и мытых полах.
— А брат твой как? — вспомнил Платов неожиданно. — Живой еще?
— Да живой…
— Упертый (упрямый, своенравный) казачок был. Не перегорел?
Кисляков пожал плечами.
— Ладно, иди, — отпустил его Платов. — Прилягу я. Уморился чегой-то.
Вышел Кисляков, досадуя на себя. Надо бы с духом собраться да сказать атаману: «Подзапустили мы, Матвей Иваныч, Тихий Дон. Всё летали где-то… Порядка нет, общего закона нет. Казаки недовольны, желают, чтоб все было по обычаю, как в старину. Мундиры опять же велено шить узкие… Это ж невозможно! В первом походе, в первой разведке все обдерут, а где новые взять?.. С очередью на службу нечисто… Земли все позахвачены… И… (при этих мыслях Кисляков даже оглянулся на царский портрет) куда лезем, куда рвемся? Все одно не будут они нас за ровню считать».
Да-а, пойди, скажи ему такое…
Напомнил Платов Алексею Кислякову про брата Андрея Ивановича.
Дней за десять до приезда Великого Князя отпрашивался Алексей ненадолго и ездил к брату в Аксайскую. Женил тот сына Петюшку. Гуляли казаки.
Аксайчане — платовским нововведениям извечные супротивники. Каршины, Денисовы — все здесь собрались.
Подпили старики, стали у Алексея с ехидством спрашивать:
— Ну, и как же там благодетель наш, Матвей Иванович, герой из героев?
— Да все так же, — отвечал за брата Андрей Иванович. — Слезы льет да из пушек бьет.
— Эх!..
Понесло дедов. Стали вспоминать…
— Запретил нанимать за себя казаков в военное время…
— А город зачем перенес?!.
— Хороший Платову город достался, торговый, богатый, а он ему в один миг «трубу навел», в станицу разжаловал…
— А бывало, красовался Черкасск…
Сидели, гундели, и хоть ты им черта дай!
Простым глазом видно было, как падение старой донской столицы, уравнение в правах с регулярной армией перекорежили домовитое, жившее с добычи и торговли казачество. Кто первым догадался землю хапнуть и малороссиян на ней заселить, в знатные люди вышел. Остальным одно оставалось — служить ради чести дворянской. А кто и в урядниках, в «казачьих детях» навечно закостенел.
Оно б, может, и без Платова так же было, но случилось при Платове. И плакали старики:
— Обобрал Войско Донское…
Молчал Алексей Кисляков. Знал он за Платовым, знал больше, чем другие знали, но предан был атаману душою и молча переживал.
Что сказать? Про гимназию, про типографию, про библейское общество, которые за последний год открыты? Что неуспехи Платов к сердцу принимает и тает от трудов и забот? Что торжественные дни и праздники, несмотря на припадки и недуги свои, соблюдает со всей точностью? После государева дня рождения собрали казаки на Донской монастырь, что в Москве стоит, десять пудов серебра да десять тысяч ассигнациями, и Платов сверху своих десять тысяч положил.
— Это ихние с Богом дела, — сказали в толпе. — У царя заслужил, теперь перед Богом выслуживается.
Чем их проймешь?
Брат Андрей Иванович отвел разговор:
— Вы еще передеритесь из-за него. Нашли, об ком на свадьбе гутарить.
Отошли с братом, стали у каменной кладки ограды, третий брат, Иван, присоединился. Без обид, по-свойски, сказал Алексей:
— Жених чегой-то не дюже веселый.
— На Покров служить с ним уходим.
— Далеко?
— Э-э, — досадливо отмахнулся Андрей Иванович.
— И ты идешь? — с сомнением переспросил Иван.
— А то как же. Куды ж они без меня? — язвительно ответил старший брат.
Не перегорел еще Андрей Иванович. Кончилась война, да служба только начиналась. Раскидали отца и сына после французской кампании по разным частям. Послали Андрея Ивановича на кордоны, на линию, дело привычное. Уехал, преследуемый иском все той же поручицы Волошиневской о двух (!) рублях («сотни» знакомые писаря забывчиво пропустили). А Петюшка с двухсотной командой есаула Сербина оказался в Казанской губернии и там — не в батюшку простой, но в батюшку шкодливый, — без родительского присмотра набедился, не преминул…