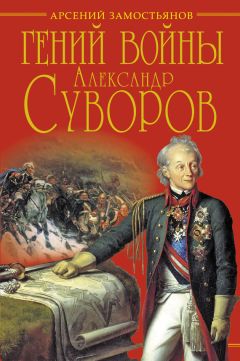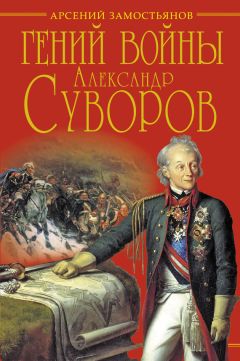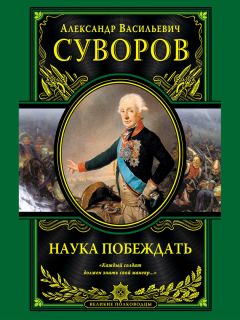Софизм: J`ai pense toute ma vie au service, il est tems que je pense a mon ame. (Всю жизнь я думал о службе, время подумать мне о душе (франц. — А.З .).
— «Оставляете Суворова: поведет армию в Царьград или сгубит! Вы увидите».
С г/рафом/ Ник/олаем/ Ив/ановиче/м меня сплел жених/ом/. Стравил меня со всеми и страшнее.
Это экстракт.
Я ему зла не желаю, другом его не буду, разве в Шведенберговом раю».
Быстрота образной мысли, умение найти единственные в своём роде эффектные определения — «Это экстракт», «Швенденберговый рай». В набросках художественной прозы полководца отразились его страстная натура, могучий темперамент, сложный жизненный опыт. Да и образ Репнина, созданный в стихах, письмах и вышеприведенной записке, оказывается рельефным, сложным, многомерным. Это и водевильный интриган, и бездельник-сибарит, напоминающий героя державинской оды «Вельможа». И масонство Репнина, его увлечение модной философией, раздражало Суворова, всегда видевшего в подобных блужданиях духа «гиену», разложение и смерть. Репнин, каким его создал Суворов, не соответствует народным представлениям об идеале, о национальном герое. Он — противник такого героя. И Суворов своей «репнинской эпопеей» обогатил собственную легенду новыми идеологическими оттенками.
Еще один суворовский прозаический отрывок — так называемая «Записка о пребывании в Петербурге», датируемая последними месяцами 1791 г. Этот отрывок — литературное предчувствие образа Санкт-Петербурга у русских писателей XIX — ХХ вв. Под пером Суворова возникает город-миазм — неосознанная перекличка со многими литературными произведениями, включая позднейшее замечательное стихотворение Я.П. Полонского «Миазм», кажется удивительной. У Александра Васильевича Суворова:
«Здесь по утру мне тошно, с вечеру голова болит!
Перемена климата и жизни.
Здешний язык и обращения мне незнакомы.
Могу в них ошибаться.
Потому расположение мое не одинаково:
Скука или удовольствие.
По кратковременности мне неколи, поздно, охоты нет иному учиться, чему до сего научился.
Это все к поступкам, не к службе!
Глупость или яд — не хочет то различать.
Подозрения на меня быть не может: я честный человек.
Бог за меня платит.
Безчестность клохчет, и о частном моем утолении жажды.
Известно, что сия умереннее, как у прочих.
Зависть по службе! Заплатит Бог! Выезды мои кратки.
Ежели противны, и тех не будет».
Санкт-Петербург уязвлял Суворова, возбуждал его подозрительность. Ещё во время командования Суздальским полком он болел в Петербурге, жаловался на невскую воду… Суворов «не верил Невскому проспекту» и не случайно свои жалобы уязвленного самолюбия поместил в городское пространство Петербурга, города, где «поутру мне тошно, с вечеру голова болит». И снова поводом к написанию прозаического отрывка (и подоплёкой нескольких туманных намёков) стала обида человека, впутанного в жестокую интригу и проигравшего. В 1791 г. Суворов получил самые серьезные «раны при дворе», которые, как известно, болели сильнее, чем солдатские раны полководца.
* * *
Поиски истоков мировой поэзии и музыки приводят нас к сюжетам древности. К тем временам, когда поэзия и музыка зарождались в истории человечества. Первые чувства, выраженные первой поэзией — это любовь, это удивление величием мироздания и патриотическое прославление героев. В VII в. до н. э. в древней Элладе жил поэт Тиртей. Он слагал лаконичные боевые песни и марши — эмбатерии. Высокой легендой отозвалось представление современников о роли Тиртея во 2-й Мессенской войне. Дельфийский оракул велел спартанцам призвать военного советника из Афин. Афиняне, словно в насмешку над всегдашними соперниками, послали в Спарту хромоногого Тиртея, школьного учителя и поэта. И поэтическая героика Тиртея внесла перелом в ход войны, воодушевив спартанцев:
Доля прекрасная — пасть в передних рядах ополченья,
Родину-мать от врагов обороняя в бою…
(перевод О. Румера)
Героическое начало проявляется и в жизни, и в искусстве, определяя течение истории. Можно ли переоценить роль чтимой Суворовым «Илиады» и «Махабхараты», русских былин и «Песни о Роланде» в истории цивилизаций?.. Мы могли бы долго перечислять образцы высокой героики в музыке, театре, в романистике, в обычаях и поступках людей. Вечная эстафета искусств невозможна без героических образов. Нигде с такой полнотой не выразился народный характер, как в героическом эпосе — фольклорном фундаменте всех литератур. Ещё один классический сюжет античной истории, сыгравший решающую роль в судьбах мировой и русской поэтической героики, — это эпопея Александра Великого. Молодой македонский царь, покоривший Восток и Запад, стал героем популярнейшего средневекового романа, подарил собственное имя величавой поэтической форме — александрийскому стиху. Империя Александра стала главной из социальных предпосылок поворота духовной истории человечества от язычества в сторону мировых религий. Перемешивая Восток и Запад, полководец создавал ареал для грядущего христианства. Эта история с метафорической убедительностью показывает взаимосвязь героики и духовности. И не разобрать — где кончается документ и начинаются Пушкин или Державин. Всё слито воедино, в монолит народной культуры, где и «тьмы низких истин», и «нас возвышающий обман».
Русская литература кровно связана с историей страны, ее народа, государственности — и особенно явно эта связь проявляется в героическом эпосе и литературной героике. Современный историк культуры пишет: «Русская мысль, начиная со «Слова о законе и Благодати» митрополита Киевского Илариона и до последних сочинений М.М. Бахтина и А.Ф. Лосева — то есть за девять с половиной столетий, — создала ценности, которые выдержат сравнение с достижениями любой духовной культуры мира. При этом необходимо сознавать, что духовное творчество не рождается на пустом месте: его порождает бытие страны во всей его целостности». Литературная героика является одним из наиболее выразительных отражений национального характера, исторических представлений о разных проявлениях бытия, свойственных той или иной культуре на том или ином этапе развития. Истоки героической поэзии — в культурной мифологии. По мнению Шеллинга, «мифология есть необходимое условие и первичный материал для всякого искусства». Суворов, а вместе с ним и целое поколение русских героев XVIII в. в поэзии были уподоблены мифологическим героям греческого золотого века, троянского цикла, историческим героям периода Греко-персидских войн, наконец, героям поколения Александра Македонского, также имевшим историко-литературное значение, ставшим эталонами героических образов для мировой поэзии (сподвижники Александра — Гефестион, Кратер, Неарх, противники — Мемнон, Спитамен, Пор). Отметим постоянное влияние представлений об Александре Македонском на русскую культуру, ощущавшееся, по наблюдениям академика Б.А. Рыбакова, и в древности, в сложной взаимосвязи с культовыми образами Даждьбога, а позже и в осмыслении Христианства. В историческом контексте образ Суворова оказался для поэзии куда важнее, чем для самого героя. В реальной биографии Суворова взаимоотношениям с поэтами было присуще психологическое напряжение, о котором речь впереди. Не случайно даже самые сухие статьи и монографии, посвящённые Суворову, не обходятся без поэтических цитат. Поэзия была увлечением полководца при жизни, она сыграла важную роль и в посмертной судьбе Суворова.