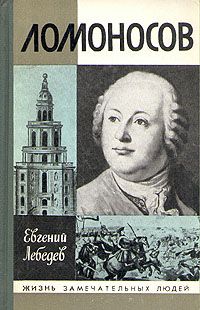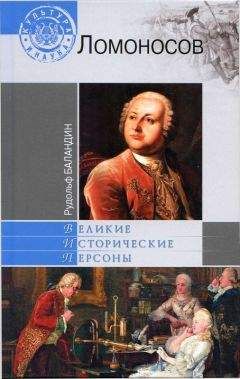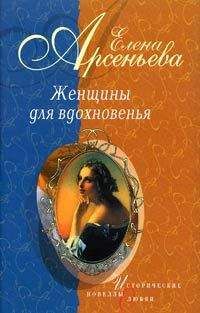Первым серьезным подступом Ломоносова к изучению комет следует назвать его работу над переводом «Описания кометы, которая видима была 1744 года», составленного на немецком языке профессором астрономии Петербургской Академии наук Готтфридом Гейнзиусом (1709–1769). В этом «Описании» были изложены результаты авторских наблюдений за кометой необычной яркости, появившейся над Петербургом в начале января 1744 года и взбудоражившей население столицы суеверными предчувствиями касательно будущего. С этого момента Ломоносов (и как ученый и как просветитель) уже не выпускал проблему комет, их физической природы из поля зрения, пока наконец спустя десять лет не пришел к своим выводам и не изложил их в «Слове о явлениях воздушных».
Ломоносов выступил против кометной теории Ньютона, заявив: «...бледного сияния и хвостов причина недовольно еще изведана, которую я без сомнения в электрической силе полагаю». Оговорка, сделанная Ломоносовым при этом, характерна: «Правда, что сему противно остроумного Невтона рассуждение, который хвосты комет почел за пары, из них исходящие и солнечными лучами освещенные; однако ежели б в его время из открытия электрической силы воссиял такой, как ныне, свет в физике, то уповаю, что бы он прежде всего то же имел мнение, которое ныне я доказать стараюсь». То есть Ломоносов считает себя продолжателем идей Ньютона (несмотря на опровержение его), в большей мере, чем выступившие в защиту великого англичанина ломоносовские оппоненты на предварительном обсуждении «Слова о явлениях воздушных» — Гришов, Попов и Браун. (Замечательно, что Эйлер в негативной части рассуждений Ломоносова был совершенно с ним согласен, о чем и сообщил ему в письме от 30 марта 1754 года: «Не знаю, видели ли Вы, что я писал интересного по поводу кометных хвостов, в которых я отрицаю всякое наличие пара».)
В природе комет и сейчас не все ясно до конца. Тем ценнее те выводы Ломоносова, которые спустя более двух веков начинают получать неожиданные и замечательные подтверждения. Утверждая исключительно электрическую природу свечения хвоста кометы, Ломоносов говорил: «...хвосты комет здесь почитаются за одно с северным сиянием, которое при нашей земле бывает, и только одною величиною разнятся. Подлинно, что, кроме доказательств предложенной теории, сии два явления удивительные сходства в знатнейших обстоятельствах имеют, так что их согласие вместо сильного довода служить может. Ибо, что до положения надлежит, обое показывается на стороне, от солнца отвращенной». Только во второй половине XX века стало ясно, как далеко смотрел Ломоносов. Исследования, проведенные искусственными спутниками Земли, показали, что земной хвост простирается на расстоянии более чем 100 тыс. км и заполняет пространство внутри эллиптического параболоида с осью симметрии, расположенной в плоскости эклиптики. И хотя Ломоносов настаивал только на электрической природе и земного и кометных хвостов, само направление его мысли (которая основывалась на правильно поставленном методе) было безошибочным. Оно не противоречит тем научным данным, которые накоплены ныне специалистами (одно из фундаментальных современных понятий в физике Земли и ближнего космоса — магнитосфера — трактуется в образах, не противоречащих ломоносовским: как хвост заряженных частиц, тянущийся в противосолнечную сторону на тысячи земных радиусов).
Изложив существо своих новых идей, Ломоносов обращается к побежденной им публике уже запросто: «...остановить течение моего слова великость материи, утомив меня, принуждает...». Это — передышка перед заключительным аккордом: «...великим основателем насажденная Академия под покровом истинныя его наследницы да распространится и процветет к бессмертной ее славе, к пользе отечества и всего человеческого рода».
Впрочем, завершая свою речь, Ломоносов вряд ли знал о том, что Шумахер еще до публичного акта взял из типографии несколько свежеотпечатанных экземпляров ее для рассылки их за границу почетным членам Петербургской Академии, в том числе и Эйлеру. Так же, как в 1747 году, он и в этот раз лелеял надежду на неблагоприятные для Ломоносова отзывы.
Но и теперь его ждало разочарование. Прочитав «Слово о явлениях воздушных», Эйлер в письме от 29 декабря 1753 года писал: «Сочинения г. Ломоносова об этом предмете я прочел с величайшим удовольствием. Объяснения, данные им, относительно внезапного возникновения стужи и происхождения последней от верхних слоев воздуха в атмосфере, я считаю совершенно основательными. Недавно я сделал подобные же выводы из учения о равновесии атмосферы. Прочие догадки столько же остроумны, сколько и вероподобны, и выказывают в г. авторе счастливое дарование к распространению истинного познания естествознания, чему образцы, впрочем, и прежде он представил в своих сочинениях. Ныне таковые умы редки, так как большая часть остаются только при опытах, почему и не желают пускаться в рассуждения, другие же впадают в такие нелепые толки, что они в противоречии всем началам здравого естествознания. Поэтому догадки г. Ломоносова тем большую имеют цену, что они удачно задуманы и вероподобны».
Получив столь недвусмысленный ответ, Шумахер не успокоился и направил Эйлеру письмо, в котором указывал, что, по мнению петербургских академиков, идеи Ломоносова не новы, что «Слово о явлениях воздушных» пронизано «высокомерием и тщеславием», что в объяснениях, данных оппонентам, автор вышел за рамки приличия: «В особенности не намерены они простить ему, что в своих примечаниях он дерзнул нападать на мужей, прославившихся в области наук».
Очередная попытка опорочить Ломоносова (теперь уже с точки зрения научного этикета) не удалась. 23 февраля 1754 года Эйлер ответил Шумахеру: «После того, что вы сообщили мне о г. Ломоносове, я прочитал его сочинение и нигде не мог приметить, чтобы он презрительно писал о великих людях».
Благородный, умный и чуткий Эйлер прекрасно понял, каково было Ломоносову выслушивать подобные упреки от своих коллег, и 30 марта того же года написал ему письмо, начало которого представляет собою яркий пример бескорыстной радости по поводу чужого успеха, образец профессиональной и чисто человеческой солидарности одного гения с другим: «Я всегда изумлялся Вашему счастливому дарованию, выдающемуся в различных научных областях. Вы объясняете явления природы с исключительным успехом при помощи теории, и я с великой радостью усмотрел из Ваших писем, доставивших мне большое удовольствие, что замечательные заслуги Ваши встречают все большее признание и по достоинству награждены августейшей императрицей. От души поздравляю Вас с этой исключительной милостью, желаю Вам совершенного здоровья и сил достаточных, чтобы выносить такие труды и превзойти ожидания, которые Вы возбудили относительно себя». И хотя внешне это был ответ на письмо Ломоносова, где тот рассказывал об экспериментах по цветному стеклу и о получении привилегии на Усть-Рудицкую фабрику, все-таки многое здесь написано с поправкой на письмо Шумахера, где тот ставил под сомнение научную компетенцию и корректность Ломоносова. Высказавшись далее о некоторых физических, химических и философских вопросах, Эйлер завершает свое письмо прощальным приветствием, которое, будучи вроде бы необходимой формальностью эпистолярной, пронизано какою-то особой теплотою: «Прощайте, муж славнейший, и не оставляйте меня и впредь Вашей дружбой, для меня всего драгоценнейшей».