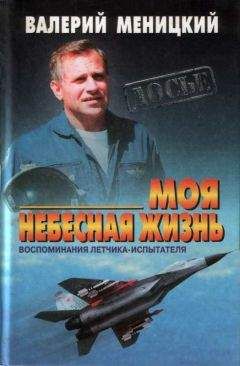«Утопии оказываются гораздо более выполнимыми, чем мы предполагали раньше…» — эти слова Бердяева взял Хаксли в качестве предисловия к своему роману «Прекрасный новый мир».
Как бороться с «новым миром» и утопиями, которые становятся явью? По мнению Бердяева, спасет лишь «религиозное возрождение». «Братство во Христе» или «товарищество в Антихристе» — такова дилемма истории. «Бытие есть трагедия», — считал Бердяев и еще более мрачно: «прогресс цветет лишь на кладбище, и вся культура совершенствующегося человечества отравлена трупным ядом».
Цитировать можно до бесконечности, но заглянем лучше в дневники жены Бердяева, в которых отражены высказывания философа. Вот несколько ее записей:
6 мая 1939 года: «За обедом разговор: „Многие наслаждаются сознанием своей принадлежности к „умственной элите“. А меня это сознание мучит. Вся эта „элита“ — навоз! А она претендует решать мировые вопросы, судьбы мира.
Вообще я с горечью замечаю, что во мне все увеличивается скептицизм. Я всюду вижу все отрицательное. Правда, во мне всегда это было и раньше, но не в такой степени“.
9 мая 1939 года: „В мире не было никогда настоящей революции. Были лишь переодевания, приспособления к ней. Подлинная революция есть революция сознания, переоценка всех ценностей“, — говорит Ни (так супруга звала Бердяева. — Прим. Ю.Б.) сегодня за завтраком, и на эту тему мы говорим».
15 апреля 1940 года: «Я под впечатлением мысли, как-то пронзившей меня. Я вдруг ясно почувствовал себя продолжателем основной русской идеи, выразителями которой являются Толстой, Достоевский, Вл. Соловьев, Чаадаев, Хомяков, Федоров. Основа этой идеи — человечность, вселенность…»
В годы войны Бердяев чувствовал себя «слитым с успехами Красной армии». Сочувствовал Бердяев и французскому движению Сопротивления. От преследований гестапо философа спасло то, что кто-то из высшего германского командования считал себя знатоком и покровителем философии, а Бердяев был одним из ее мэтров.
В 1947 году Бердяеву была присуждена степень доктора теологии honoris causa Кембриджского университета. Он был также представлен к Нобелевской премии, но получить ее не успел: 24 марта 1948 года он умер в возрасте 74 лет. И знаменательно, Бердяев скончался, работая за своим письменным столом.
Последнее, незавершенное произведение Бердяева — книга «Царство Духа и царство Кесаря» (1946–1948). Она начинается словами: «Мы живем в эпоху, когда истину не любят и ее не ищут. Истина все более заменяется пользой и интересом, волей к могуществу…»
И далее: «Если наша эпоха отличается исключительной лживостью, то ложь эта особенная. Утверждается ложь, как священный долг во имя высших целей…»
Боже, как это знакомо нам сегодня!.. «Люди чаще, чем думают, живут в царстве абстракций, фикций, мифов…»
«Государство хочет быть тоталитарным. Это относится не только к коммунизму и фашизму… Власть принуждена бороться с проявлением зла; в этом ее функция. Но она и сама сеет зло и бывает новым источником зла… И нет выхода из этого порочного круга».
Вас заинтересовал Бердяев? Ныне он не в запрете и вы всегда можете купить или достать любую его книгу.
В заключение еще одно высказывание философа: «С горечью нужно признать, что свобода мысли дорога лишь людям, у которых есть творческая мысль. Она очень мало нужна тем, которые мыслью не дорожат…»
Для Николая Александровича Бердяева свобода была всегда на первом месте.
БУЛГАКОВ
Сергей Николаевич,
после принятия сана —
отец Сергий
16(28).VI.1871, Ливны Орловской губернии — 12.VII.1944, Париж
Чисто композиционно лучше всего начать с «Воспоминаний о русских философах», в которых Андрей Белый рассказывает, как его донимал Григорий Рачинский (тоже интересная фигура Серебряного века — он, как пишет Белый, «строитель моста к нам: из стана „старцев“, „Староколенный москвич“, профессор, „плавал в стихии искусства“). Так вот что вспоминает Андрей Белый:
„…И тут, распахнув шубу, Рачинский бросается мне рассказывать о Булгакове:
— Понимаешь?
— Паф-паф! — обкуривая меня папиросами Рачинский.
— Понимаете, Борис Николаевич!..
— Сергей Николаевич — паф: человек удивительный; его надо — паф: паф-паф-паф-паф!
— Паф-паф.
— Понимать!..“
И далее, переваривая всю эту „паф“-информацию, Андрей Белый пишет: „Мне в Булгакове видится что-то черничное: может быть, — это черничный кисель?“
В разговоре с Булгаковым несло ягодами, свежим лесом и запахом смолы, средь которых построена хижина христолюбивого, сильного духом орловца, плетущего лапти в лесу, по ночам же склоненного в смолами пахнущей ясной и тихой молитве; несло свежим лесом, — не догматом вовсе; из слов вырастал не догматик-церковник, каким он являлся в докладах, в писаньях своих, — вырастал между юною порослью ельника крепкий стоический мужеством чернобородый и черноглазый орловец; и сравнивал я Булгакова с более мне в то время понятным Бердяевым; да, они появились, как пара: Булгаков, Бердяев — Бердяев, Булгаков, сливаясь в представлении мало их знавших в „Булдяева“ или в „Бергакова“… Е.Н. Трубецкой — отклонялся от них в одну сторону: в сторону большего протестантизма, рационализма и всяких привычек хорошего университетского тона; М.О. Гершензон — отклонялся от них то же самое: в сторону литературы, фактичности и несения службы в хорошего тона почтенных журналах; Булгаков с Бердяевым не принимали того и не шли на другое; мечтали о собственном органе; с Университетом формально не связаны были нисколько; смелели своею оппозицею — „религиозною“, заостряемою Бердяевым в публицистическое острие, и укрепляемою Булгаковым тяжелой артиллерией экономических фактов; они были „парой“, „Булдяевым“. И далее — начиналося расхождение между ними…»
«…Булгаков, хотя был „профессором“ он; в нем таились тогда уж потенции к „батюшке“, к „опыту“, к келье, ко старчеству и к Зосимовой Пустыни… меж тем; я Бердяева вовсе не мог бы представить себе посещающим „что-либо“ или „кого-либо“…»
«Было в Булгакове тихое, обнимающее молчанием сосредоточенного восприятия, почти женственного по силе отдачи возникающей вести; и оттого разговор с ним бывал со-вещаньем, со-вестием, со-вестю, „совесть“ будил он. В Бердяеве не было часто желания по-со-вещаться, со-ветствовать; вместо „со“ был „по“: повествовал о себе; или он из-вещал; там, у Булгакова „со“ — весть вставала; вставал же Бердяев с огромной повестью; кроме того, был Булгаков — совестным; Бердяев — известным. На мягкую восприимчивость надевал С.Н. частью панцырь воителя: сковывался годами меч воина — догматическое богословие, столь смущавшее многих; но „латы“ он дома снимал; Николай Александрович в „латах“ сидел у себя за столом; в них пил чай. Превосходно владел он рапирой и шпагой; и ими прокалывал точки он зрения; С.Н. владел превосходно мечом, прибегая к нему очень редко. А сверху, на панцырь, Сергей Николаевич набрасывал в иных случаях очень ученую мантию экономиста, конкретнее всех прикоснувшегося к истокам формальной науки: к статистике, к цифрам, такою профессорскою миною он повернулся ко мне в наших первых беседах у Мережковских…»