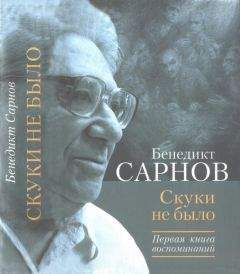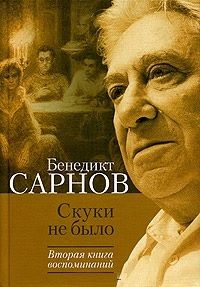Только обратившись к непосредственному изучению реального литературного процесса, развивающегося — во всей его сложности и многообразии — в теснейшей связи с жизнью народа, можно до конца решить и увлекательную тему о Маяковском и Пушкине.
Друзья, от которых я не смог утаить свое огорчение, решили, что обескуражил меня этот кисло-сладкий финал (начал, мол, за здравие, а кончил за упокой). И дружно осудили меня, назвав чуть ли не сумасшедшим: радоваться должен, болван, что сам Благой тебя заметил и, так сказать, в гроб сходя — ну, еще не совсем сходя, — благословил…
Они не понимали, что тоска и уныние, которые нагнал на меня своим «благожелательным» откликом Дмитрий Дмитриевич, были совсем иного рода.
Вообще-то, одной только дежурной фразы о «теснейшей связи с жизнью народа» тоже вполне бы хватило, чтобы вогнать меня в эту тоску. Но главное было тут все-таки не в ней, не в этой дежурной фразе. И даже не только в том, что я обиделся за Маяковского, утверждение которого, представлявшееся мне безусловной истиной, Благой посмел назвать ошибочным.
Ведь эти слова Маяковского представлялись мне безусловной истиной совсем не потому, что авторитет Маяковского был для меня непререкаем. Просто я чувствовал так же, как он. Всей кожей ощущал, что гул времени, в котором мне — всем нам — выпало жить, невозможно поэтически выразить «в пределах пушкинского словаря и синтаксиса».
Но дело тут было совсем не в моей правоте или неправоте. Не в том, справедливы были обращенные ко мне упреки Благого или несправедливы.
Хуже всего было то, что я даже готов был признать их справедливыми. Ведь я же искренне глядел тогда на академика, удостоившего меня своим «благожелательным» отзывом, снизу вверх.
О Мандельштаме тогда я что-то, наверно, уже слышал. Но до времен, когда впервые попали мне в руки напечатанные на пишущей машинке через один интервал листки папиросной бумаги с мандельштамовой «Четвертой прозой», должно было пройти еще лет пятнадцать.
Жадно проглотив этот вылившийся на бумагу истошный вопль загнанного в угол гения, я наткнулся там на такие строки:
В Доме Герцена один молочный вегетарианец — филолог с головенкой китайца — этакий ходя — хао-хао, шанго-шанго — когда рубят головы, из той породы, что на цыпочках ходят по кровавой советской земле, некий Митька Благой — лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки, — сторожит в специальном музее веревку удавленника Сережи Есенина.
А я говорю — к китайцам Благого — в Шанхай его, к китаезам! Там ему место! Чем была матушка филология и чем стала! Была — вся кровь, вся нетерпимость, а стала пся-кровь, стала — все-терпимость…
Если бы тогда, в 1953-м, кто-нибудь ткнул меня носом в этот яростный монолог, у меня, наверно, сразу бы стало «легко на сердце», как «от песни веселой». Я бы, наверно, даже подумал, что не огорчаться мне надо по поводу кисло-сладкого отзыва этой «лицейской сволочи, разрешенной большевиками», а напротив, гордиться тем, что этот отзыв именно таков.
Но для этого надо было прожить еще целую жизнь. А тогда (повторю еще раз), я не только смотрел тогда на Благого снизу вверх, но и искренне готов был поверить, что прав он, а не я. Уровень его знаний, эрудиции, тонны написанных и изданных им книг, его высокий (так мне тогда казалось) научный авторитет — все это заставляло меня относиться к его суждениям с известным пиететом.
Но вот что странно! Эта готовность признать его правоту не только не смягчала, а напротив, лишь еще больше усиливала накатившую на меня тоску.
Я, наверно, не сумел бы это четко сформулировать, но смутно ощущал, что не Пушкина защищает от меня (и от Маяковского) академик Благой, а официальную тогдашнюю государственную эстетику, согласно которой в стране есть только два «правильных» театра (МХАТ и МАЛЫЙ) и только три «правильных» поэта (Исаковский, Твардовский, Сурков). И никаких Мейерхольдов и Вахтанговых, никаких Пастернаков, Багрицких и Сельвинских! Любой шаг в сторону рассматривается как побег.
В уныние и тоску меня вогнали не критические замечания, содержащиеся в рецензии Благого, а ее ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПАФОС.
Я, в общем-то, готов был признать, что, может быть, и в самом деле заблуждаюсь. Но я хотел расставаться со своими заблуждениями САМ, самостоятельно, в ходе собственных выводов и размышлений. А мне сразу, на самом пороге этих размышлений было сказано: СТОП! СЮДА НЕЛЬЗЯ!
Нельзя — и все тут. И нечего тебе туда соваться: все уже решено до тебя и без тебя.
Мне, стало быть, отводилась роль попугая. Или — выражаясь чуть мягче — вместо сочинения предлагалось писать диктант.
Девочка, сказавшая мне когда-то, что не сможет меня полюбить, потому что я организую свою партию (в это время она уже была моей женой), на все эти мои грустные размышления (высказанные, разумеется, в гораздо более туманной и сбивчивой форме) отреагировала так:
— Все это нормально. И знай: у тебя так будет всегда. Потому что ты всегда будешь высказывать какие-то свои мысли, отличающиеся от общепринятых. И всегда будут находиться люди, которым это будет мешать.
Эти ее слова польстили мне, пожалуй, даже больше, чем то, давнее ее высказывание насчет того, что я организую свою партию. И сама ее мысль тоже пришлась мне по душе, хотя от нее слегка повеяло на меня классическим конфликтом советской литературы: борьбой смелого новатора с консерваторами. С той только разницей, что в советских романах новатор всегда побеждал, а мне жена предрекала не победу, а, так сказать, вечный бой.
Но это меня как раз не смущало. Напротив: только еще больше подогревало мою гордыню. Сказал же мой любимый поэт: «Где, когда, какой великий выбирал // путь, чтобы протоптанней и легше».
Польстившее мне высказывание моей жены слегка меня утешило. Но — ненадолго. Потому что я знал, что в действительности дело обстоит гораздо хуже.
Нет, мой конфликт «с обществом, в котором я живу», не укладывался в классическую советскую схему борьбы новатора с консерваторами. Он был глубже.
Печататься я начал еще студентом. Первая моя рецензушка в «Литгазете» появилась в 1948 году. За ней, с более или менее длительными перерывами, но довольно регулярно, появлялись и другие.
Видеть свою фамилию напечатанной типографскими буквами — что греха таить — было приятно. Но сами тексты, под которыми — или над которыми — эта фамилия стояла, меня не радовали.
Поскольку пишу я не исторический и даже не психологический очерк, а хоть и странные, но все-таки мемуары, расскажу один связанный с этими делами эпизод.
Политэкономию нам преподавал Григорий Александрович Белкин (в имени не очень уверен, но фамилию и отчество помню хорошо). Это был живой, подвижный, рано начавший лысеть человек с острыми, умными глазами.
На его лекции и семинары ходило человек пять-шесть, остальные старались увильнуть. Но я эти лекции и семинары не пропускал.
Не могу сказать, чтобы политэкономия так уж меня привлекала, но Белкин мне нравился: слушать его было интересно. А после одного случая у нас с ним установились особые отношения, выражавшиеся, впрочем, лишь в мимолетном переглядывании насмешливыми, понимающими взглядами.
Случай был такой.
Рассказывая нам о политэкономии социализма, Григорий Александрович однажды сказал, что одно из самых очевидных преимуществ социалистического способа ведения хозяйства состоит в том, что у нас — один хозяин. При капитализме, например, газ принадлежит частной газовой компании, электричество — другой, скажем, «Дженерал электрик», водопровод — третьей, канализация — четвертой. И если произойдет одновременно какая-нибудь авария, скажем, электрического кабеля и газовой трубы, ликвидировать эти две аварии надо будет по частям, с каждой компанией сговариваясь отдельно. А у нас это можно сделать одновременно, потому что и газ, и электричество, и вода — все принадлежит одному хозяину, государству.
— У вас есть вопрос? — обратился он ко мне, увидав, что в этот момент я как-то дернулся, может быть, даже поднял руку.
Я встал и сказал:
— Если все так, как вы говорите, объясните, пожалуйста, почему в переулке рядом с нашим институтом вырыли большую канаву, долго что-то там ремонтировали, потом опять зарыли. А месяц спустя опять вырыли и опять зарыли. И все время, сколько я учусь в этом институте, они все роют, засыпают землей, снова роют и снова засыпают…
Выслушав мой вопрос, Белкин пожал плечами и буркнул:
— Ну, это просто головотяпство, бесхозяйственность…
И в свойственной ему иронической манере заключил цитатой из «Двенадцати стульев»:
— К пожарной охране, которую я в настоящий момент представляю, это отношения не имеет…
Однако при этом он как-то очень внимательно на меня поглядел. Даже как будто что-то просигналил мне глазами.