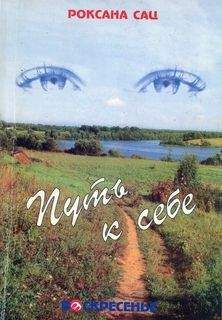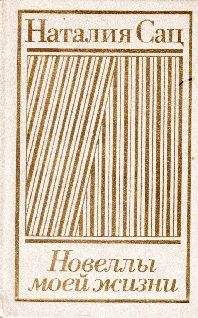Ее радовали люди, деревья, горы, восхищал Театр оперы и балета, «где мы с мамой живем», — гордо сообщала она всем.
Смех, который вдали от меня, вероятно, застревал в ее худеньком горле, теперь звучал часто, заливисто, и я тоже смеялась. Больше смеялась, чем радовалась, — нелегко найти свою правду в чужом театре. Единственно родным я все еще считала Центральный детский театр. Непрерывно тосковала по нему.
Да, если бы не живой родник — дочка, совладать со своим «я» было бы трудно.
Звала ее многими именами: то Руся (очень у нее личико русское), то Росинка, то полным именем — Роксана (редко), то, как в детстве, — Ксаночка, Ксаненок.
По вечерам окна в Алма-Ате не занавешивали черным: война шла далеко от нас. Но когда темнело, мысль о войне отодвигала все другие: сын Адриан на фронте.
Мысль о сыне неотступно грызла и во сне. Может быть, поэтому средние спектакли меня раздражали, а хорошие казались безрадостными. Сердце было занавешено черным.
— Пойдем сегодня пораньше спать, — сказала я как-то дочке.
Она посмотрела на меня недоуменно:
— Се-го-дня? Да что ты, мамочка. Сегодня в нашем театре танцует Уланова. Понимаешь? Все билеты давно проданы, а я у того администратора, что раньше в нашей комнате контрамарки выдавал, еще вчера две выпросила. Пойдем скорее, он сказал: «Садись за час и не двигайся с места — в такой день всякое может быть».
Теперь я поняла, почему дочка с утра бегала принимать душ в балетном классе, так тщательно гладила «самое лучшее», единственное свое платье, стояла передо мной в струнку, как ландыш…
Мы вошли в зрительный зал за час до начала; откидные места кресел со стуком, напоминающим бой тамтамов, поднимаются и опускаются под пальцами людей, озабоченно снующих в поисках своих мест. Атмосфера непривычной праздничности.
Кто вошел? Неужели Эйзенштейн?! Он, кажется, снимает здесь «Ивана Грозного», но никогда еще не видела его входящим в театр и в Москве.
— Мамочка, Паганель, сам Паганель из «Детей капитана Гранта». Он — Черкасов, да?
Не успеваю повернуть голову, как тот же ликующий голос заставляет обернуться влево:
— Михаил Названов, тот, что позавчера был Олеко Дундич. До чего же он нам понравился, верно, мам?
Серафима Бирман, Вера Марецкая, Эдуард Тиссэ, Мухтар Ауэзов — число «великих» растет.
Второй звонок. Все сидячие места заняты. Любители знаменитостей в креслах партера шарят окулярами биноклей по зрительному залу, а люди большого искусства сидят молча, здороваются без улыбок, они предельно собраны — сейчас на их глазах будет священнодействовать Уланова.
У дверей, на балконе — везде, где только можно как-то прилепиться, стоят юноши и девушки. Стоят так прочно, будто вросли в пол. Напрасно мечутся администратор и билетеры — страстные поклонники Улановой словно застыли в неуклонном решении, если на них не хватило сидячих мест, стоять неподвижно, где угодно.
Третий звонок. Зазвучал оркестр. Зал затих. Вздрогнул и пополз занавес.
…Балетные пейзане в крикливо пестрых костюмах, балетные барышни (тоже крестьянки) с лентами вокруг головы снуют по сцене, подбоченясь и вытягивая носок. Судя по свежеподмалеванному быстрой кистью заднику, это — опушка леса, сельский праздник у домика лесничего…
Но вот из дверей домика лесничего выглянула девушка, почти подросток, с косичками: синяя юбка, белая кофточка, фартук. По-детски искренне заинтересована девушка всем происходящим на сцене; ее движения просты, понятны, и хочется поближе узнать ту, от одного появления которой появилось самое главное: вера. Кто-то захлопал, кто-то остановил возгласом «тише», словно боясь вспугнуть правду, так неожиданно возникшую на сцене.
Эта чистая, наивная девушка заставляет вас поверить, что рядом с ней все живут так же правдиво и чисто. «Пестрые пейзане» исчезли из вашего поля зрения; вы видите только одно существо, вы вглядываетесь в поразительно лаконичную и выразительную ее мимику, ловите каждый жест, и происходит чудо — вам кажется, что вместе с ней вы ощущаете запах лесной листвы, вы радуетесь, что у нее так много тепла к друзьям. Она еще по-детски угловата в движениях, но в ней уже есть и притягательная сила девушки, которая, вероятно, вскоре станет очень хорошенькой. Пока — это бутон, многообещающий и неприкосновенно чистый. Девушка (Жизель) танцует с подругами застенчиво, совершенно не собираясь выделяться из их числа.
Жизель выросла далеко от города, среди деревьев и полевых цветов, под лучами солнца. Она — светлая и ясная. Дочь природы, родная частица ее. Вероятно, со дня рождения Жизель полюбила пение птиц, музыку, которой наполнена жизнь природы: каждое движение Улановой пронизано музыкой. Слышимое и зримое, когда танцует Уланова, — одно целое; ее движения не только вытекают из музыки, они обогащают вас более многогранным ощущением мелодий, ритмов, гармонии.
Жизель смотрит на юношу-охотника, снимающего свои доспехи, глазами, полными удивления. Она никогда еще не видела такого красивого лица, таких изысканных манер, роскошного одеяния. Вместе с ней начинают верить всему, чему верит она. Юноша (артист Баканов) действительно прекрасно сложен, по-настоящему красив. Глаза Жизели широко раскрыты. Удивление сменяет восторг, а когда этот юный граф, Альберт, замечает ее, она потрясена этой честью, почти испугана. Но нет, она никуда не уйдет. Такое бывает только раз в жизни. Ее глаза ведут немой разговор с его глазами: сомнение, надежда, как все это знакомо и по-весеннему свежо сейчас, когда видишь Уланову. Красавец Альберт пожелал присесть, чтобы побеседовать с милой девушкой.
На всю жизнь я запомнила, как, подводя его к скамейке и буквально сияя от счастья, Уланова садится на эту скамейку, торжественно расправляет свеженакрахмаленную синюю юбку. Юноша любуется ее непосредственностью, но… ему уже некуда сесть — не осталось места. Смеются оба. Жизель сжимает все складки своей юбки, отодвигается на уголок скамейки, чтобы осталось приличное расстояние между ней и тем, к кому ее так влечет. Она ни на минуту не теряет скромности, сдерживает улыбку, чуть заметным движением головы откидывает назад косички, поправляет сбившийся фартучек, но я — зритель — чувствую, что сердце Жизели сейчас стучит быстрее, а радость жизни в этом хрупком тельце бьет ключом.
Снисходительно вежливо Альберт приглашает крестьяночку на танец. Она не сразу верит, что такое счастье возможно; худенькие ручки скрестились на груди, глаза прячутся в ресницах, только их движение выдает ее волнение. Большой, ладный стоит перед ней граф-охотник. Милый полевой цветочек не помешает в лавровом венке его побед. Девушка так трогательно взглядывает на него снизу вверх и снова опускает ресницы… Альберт очаровательно спокоен. Начинается па-де-де…