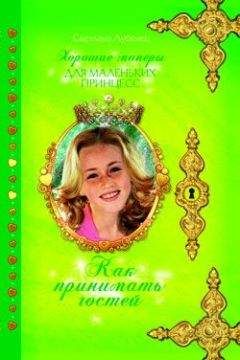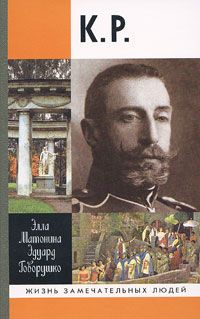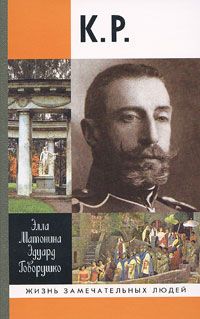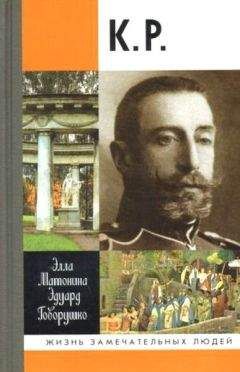силой дарования не имеет своего режиссера. Вот когда бы был театральный праздник, театральное пиршество».
А какую судьбу он напророчил Н. Андрейченко – сбывается ли она? «Как невероятно хороша Н. Андрейченко, какой прекрасный запас человеческой неповторимости, решимости, шарма и трагизма имеет она!»
Восхищался он Людмилой Зайцевой, Светланой Крючковой, Еленой Майоровой… Возможно, продолжил бы список сегодня и открыл новую Чурикову, которая по игровой стилистике ближе всех к нему.
Конечно, Иннокентия Михайловича можно заподозрить в ревности к коллегам-мужчинам и в рыцарской снисходительности и терпимости, как и положено, к женщинам. Но он чуток и верен в своих вкусах.
Сам же он стоит особняком на этом прекрасном игровом поле.
Смоктуновский переехал из Ленинграда в Москву. Он потрясал столицу своим царем Федором в спектакле «Царь Федор Иоаннович», и снова слагались легенды о его игре, о жаждущих ее видеть, о конной милиции, охраняющей театр и актера.
Связаться со Смоктуновским цивилизованным путем не представлялось возможным: театр телефонов не дает, ВТО – ничего не знает, 09 отвечает – «такого нет».
Оставалось одно – идти к служебному подъезду Малого театра. С шести до семи вечера – время театральной Москвы. Вливаешься в тот особый людской поток, который угадывается в огромном московском перемещении своим щегольством, приятной важностью на лицах, сознанием избранности.
Толпа видна издалека. С бессовестным детским любопытством рассматривается каждый актер, но все ждут одного. Он появился в легком плаще, с термосом в руках. Казался слегка отяжелевшим и кротким, как бы с налетом судьбы, которую проживал в этот сезон на сцене. Дарили цветы, просили билеты, запомнился народ, приехавший издалека, назывались города Абакан, Кемерово, Челябинск, Кустанай… И все утверждали, что они земляки, из тех же мест, что и он. А ленинградец чувствовал себя еще в большей мере земляком, «хотя в БДТ не служу».
Когда эмоции схлынули и толпа поредела, настала очередь служебных домогательств.
У него были очень ласковые глаза, но в этот раз слегка затравленные. Он с тоской смотрел на диктофон, появившийся из сумки: «Не сегодня, прошу вас, тяжелый спектакль. Позвоните, вот телефон…»
И ушел со своим термосом страдать страданиями тех, кто когда-то жил на этом свете…
Звонки продолжались год. Мы были уже хорошо знакомы, но я слышала одно и то же: «Дорогая, нет времени, хочу, но не могу». Потом умоляюще (умоляли все время друг друга): «Вы поймите, не заношусь, цену не набиваю». Потом он уезжал; где-то в Сибири болела тетка, брат разводился с женой – мирил.
Соломея Михайловна, как бы извиняясь за него, говорила о его занятости и несчастной в этих условиях привычке все делать ревностно, основательно и честно. Сам он жаловался: «Много, слишком много работаю. Нужно ли? Не убиваю ли я сам себя?
Три фильма параллельно с «Федором», статьи, перебежки от озвучания к концертам, от чтива на радио к ТВ. Зачем?»
И вдруг – Случай, тот господин, которого очень ценил Иннокентий Михайлович.
Встреча с Еленой Александровной Кузьминой, легендарной актрисой советского кино, женой, тогда уже вдовой, великого Михаила Ильича Ромма, никак не была связана с моей проблемой. Предполагалось найти в архивах Ромма его записки-размышления об образе Ленина в кино. Это были по тем временам острые суждения: Ромм не говорил плохо о мертвом, он замечал, что лакейская пошлость способна сделать смешным, нежизненным, а это значит плохим, любого мертвого человека, все равно – великого или обычного… Мы прощались с Еленой Александровной. «Спасибо, с вами так было легко работать». И я не сдержалась: «Не то что со Смоктуновским».
Она знакомо и знаменито улыбнулась: «Не говорите об этом человеке даже с легким осуждением. Он Богом отмечен. Помню его голодного, с бахромой на брюках, театр держал его на выходах. А когда он заменил заболевшего актера в пьесе Горького «Последние», все пришли в ужас и говорили, что он какой-то странный и всю сцену развалил. На самом же деле играл и тогда лучше других. Но вот режиссера не замечал, за что тот ему и отплатил. На мою просьбу взять Смоктуновского на роль молодого любовника в пьесе Шоу злопамятно нашел причину для отказа: «Длинный очень». Но кто-то из товарищей поддержал меня: «Если дама просит…» Елена Александровна грустно улыбнулась: «Бедное начало гения… Кстати, заставьте его самого сочинительством заняться, у него получится прекрасно. Вкруговую одарен».
Совет Кузьминой неожиданно восстановил в памяти впечатление от небольшой статьи Смоктуновского, опубликованной в «Известиях». Она была посвящена Евгению Урбанскому, но по ходу изложения вспоминались детство и отец, уходивший на фронт. Строки о том, как долго виднелась в строю высокая фигура отца и его рыжая голова, полыхавшая на солнце, были щемяще выразительными…
И однажды – молчание, раздумье и наконец (!): «Приезжайте ко мне на Суворовский бульвар, я вам кое-что покажу…»
Мне хотелось еще в троллейбусе заглянуть в рукопись. Но я терпела. И какое же это было счастливое терпение с ожиданием чуда! Как играло самолюбие от уверенности в профессиональной удаче!
В редакции текст с ходу отпечатался в голове. Рукопись начиналась с эпиграфа из поэмы «Одинокая роза» Пабло Неруды: «Прощай, всеочищающая роза… мы возвращаемся к своим занятьям, к своим печальным службам и ремеслам…»
Статья была о поездке в Чили, о встрече с Сальвадором Альенде, о премьере фильма «Чайковский» (собственно, почему Смоктуновского и пригласили в Чили). В остальном – то, что мы привыкли называть «зарубежными впечатлениями», которые чередовались с мыслями о доме, жене, детях, работе. Но все было так напряжено в этом тексте, так было красочно и страстно, что к концу чтения начиналось сердцебиение. Автор что-то предсказывал, пророчил и, как это бывает с художниками, чутьем и душой не ошибся – в Чили пролилось много крови…
Дальше случилось то, что всегда случалось вокруг Смоктуновского или того, что он делал. Тема, стиль, интонация, обнаженность мысли и слова нашли своих сторонников и противников. «Графомания!» – сказал наш молодой ответственный секретарь А. Афанасьев. «Бегите, звоните, благодарите, прекрасно! Берем! – волновалась номенклатурная единица, главный редактор Владимир Токмань. – Все беру на себя!» Последнее слово должна была сказать редколлегия. Ее представляли профессора, поэты, писатели, министры, комсомольские деятели и даже космонавт. Активно никто не возражал, но все требовали сократить, подчистить, убрать острые моменты, в политику не вдаваться и т. п.
Спас положение доктор технических наук, дважды Герой Советского Союза, летавший на «Союзе-5», «Союзе-8», «Союзе-10», принимавший участие в стыковке с орбитальной станцией, космонавт Алексей Станиславович Елисеев.
Человек, профессионально далекий от театра и литературы, он в силу неординарных отношений с миром легко воспринимал то,