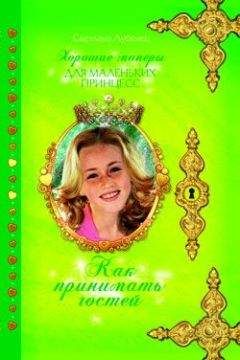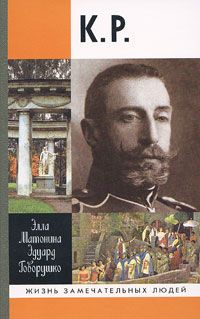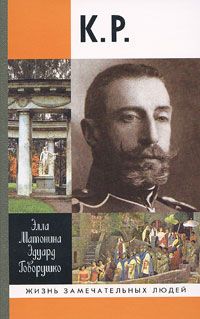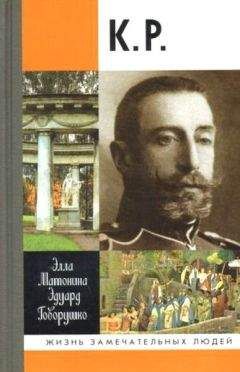присутствует, так сказать, для того, чтобы смягчить этот нокаут, наверное. И вдруг в начавшемся обсуждении выясняется, что это едва ли не шедевр. А уж то, что пьеса призвана перевернуть все устои современной драматургии, – это уж как пить дать. Ничего не соображая, ярюсь взять слово и предупредить провал, предостеречь автора – от стыда. Но… скромность, эта неуемная вежливость так и зудит где-то там в коленях… Вот ведь так и слышишь: «Да помолчи ты, оракул. Тебе что, больше всех надо?..» Нет, все больше и больше приходишь к выводу – несовершеннейшее создание человек».
Смоктуновский болезненно переживал, когда выяснял творческие отношения с Борисом Ивановичем Равенских, был в смятении, когда излагал суть этих выяснений в статье, и совсем сник, когда разгорелся скандал, и его обвинили в позерстве, в непатриотизме и пр.
– На статью обиделись. Приходят на работу, а в сумочках журнал несут. Уйду из театра. Возможно, во МХАТ, к Ефремову. Сам поставлю «Царя Федора»!
Мы не понимали и даже раздражались, почему человеку, достигшему мировой славы, все было не так – и Ленина сыграл плохо, и царь Федор безобразен, и даже счастливая роль Ильи Куликова в «Девяти днях…» не во всем его устраивала, он говорил Ромму: «Отснятое мне не по душе…»
Возможно, его энергообмен с миром рождал особые спирали земного существования. А мы ему предлагали собственные скромные возможности.
Смоктуновский ушел из Малого театра, пришел во МХАТ, репетировал «Царя Федора», но так и не поставил драму. Профессионализма или характера не хватило? Но, скорее всего, гений воображения и перевоплощения, живший в нем, рождал ненасытные, но бессильные требования, обращенные к другим…
В моем архиве хранится много фотографий Смоктуновского. Одни подписаны – сдержанно, немного официально. Другие – перечеркнуты карандашом или надорваны, знак того, что он против их публикации. Третьи – с короткими пометками для себя…
Трудно сказать, отчего так придирчиво относился Смоктуновский к собственным фотографиям. То ли, как это свойственно актеру, хотелось «сохранить» себя на память в лучшем виде, то ли обычная для него требовательность ко всякой работе. Во всяком случае, зная, что предстоит съемка, он старался одеться понаряднее и быть в особом душевном состоянии. Определить это состояние можно так: все, что сейчас происходит, весьма серьезно, но вместе с тем нелепо и смешно.
Он сидит у себя дома на диване, покрытом пушистым кремовым пледом. На низком журнальном столике – шахматы. Одет он в тончайшую белую, очень красивую рубашку, с изящной маленькой королевской короной, кажется, на кармане. От него не отходит дочь в бантах и праздничном платье. «Наряжайся, нас придут снимать», – видимо, он сказал девочке, превращая мероприятие в маленькую семейную радость.
Белый свет жарких ламп высвечивает лицо, шею, и становится видно, как он постарел. Что-то почувствовав, он досадливо говорит:
– Видите, я стар, и я поздно все начал. – И тут же, сменив интонацию: – Но рожу я могу скроить любую. Какая вам нужна?
– Иннокентий Михайлович, рожу не надо, – говорит красавец фотокор Виталий Засеев. – Нам надо естественное веселье. Почти счастье. Расскажите что-нибудь смешное.
– Извольте. Мне сейчас 51 год, а я играю тургеневского юношу.
Потом рассматривал снимки, на которых не было счастья, мрачнел и ворчал: мешки под глазами, щеки висят, шея в складках. И надрывал одну за другой фотографии:
– Простите, голубчик. Не годится, в корзину. В следующий раз, может, повезет. Не вам, а мне: помолодею…
Они, эти снимки, надорванные сверху, лежат как игральные карты, веером, в моем архивном альбоме.
В другой раз снимали на улице у старого здания МХАТа в Камергерском переулке. У него закончилась репетиция, он очень молодо прыгнул со ступенек в снег, на едва протоптанную дорожку. Светлая дубленка и в тон ей меховая ушанка очень были к лицу, подчеркивали такие известные светло-виноградные большие глаза.
– Начнем?!
Мимо зябко, путаясь в снежном заносе, бежал народ. И как это бывает в Москве, мало кто обращал внимание на съемочную суету у театрального подъезда. Но тот, кто бросал взгляд, подходил, протягивал что-то, извлеченное из сумки, портфеля, кармана и просил автограф. Смоктуновский не отказал никому. И, выслушав, благодарил: «Спасибо, что помните».
– Отчего маленьких людей тянет на автографы? Времени в обрез… – проворчал кто-то из снимавших.
– Напрасно вы так. Жизнь и работа того, кого считают маленьким, и того, кого считают большим, одинаковы, они подобны всходам посевов на одном поле.
Озадачив таким серьезным подходом к теме автографов, он засмеялся:
– Это не я сказал. Древний китаец. Я только согласен.
Съемка получилась. Но Засеев хотел что-то иное, из ряда вон… Пришлось напрашиваться на репетицию в театр. Смоктуновский встретил в холле нового МХАТа на Тверском. Помог повесить на вешалку пальто. Моя гордость – меховая шляпа с большими полями – осталась на голове. Еще и шагу не было сделано, как строгий звучный голос: «Кто это там в театре в шляпе?» – заставил вздрогнуть.
– Это Зуева, – клянусь, что не без страха перед старой актрисой шепнул Смоктуновский. – Пойдемте скорее.
– А шляпа?
– Несите в руке.
– Не буду.
– Ну как хотите, только идемте скорее.
С тем мы и прибыли в репетиционный зал. Я в шляпе. Он в небольшом волнении, смущении.
Репетировали «Иванова». Сидели Киндинов, Попов. Что-то объяснял Ефремов. Что именно, не помню, но только захотелось эту, на мой взгляд, самую страшную пьесу Чехова перечитать.
Засеев снимал мхатовцев, которые то тихо и спокойно обменивались репликами, то, загораясь, переходили на повышенный тон. И снова долго, при полном молчании других, говорил Ефремов. В тот день я записала: «Смоктуновский после репетиции «Иванова» сказал, что Товстоногов больше постановщик, а Ефремов режиссер, который поднимает пласты сердца и души, чувствует психологию каждого героя. И вместе с тем – крутая воля во множестве лиц. Интересный человек».
Как бы там ни было, в тот день Смоктуновский весь светился, душевно был весел и энергичен. Он все повторял: «Я уже знаю, почему я Иванов, а не Иванов, я знаю тайну этого ударения. Ну и хитер Чехов!»
Засеев торопился. Он тоже знал свою волшебную минуту. Высмотрев в зале массивное старинное кресло с высокой «рыцарской» спинкой, он усадил Смоктуновского прямо. И заставил его «уйти» в себя. На этом, смею утверждать, самом лучшем снимке актера проступила царственная сила его личности. На вас смотрит не князь Мышкин, не Деточкин, не Гамлет, не Иванов, не Моцарт, не Маргаритов, не Геккерен, не царь Федор, не Чайковский… На этом снимке один, только один Иннокентий Смоктуновский, которому достало какой-то фаустовской силы и магии создать, продлить, вернуть, повторить им всем жизнь.