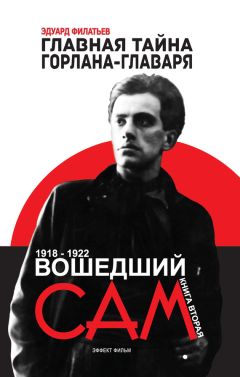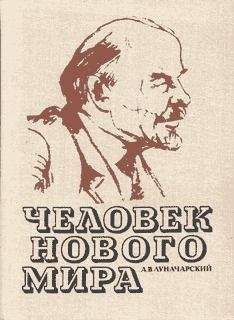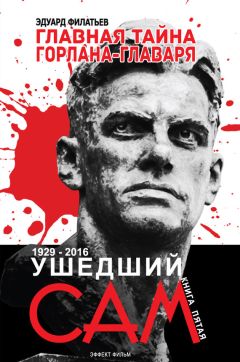И, отложив «IV Интернационал» в сторону, Владимир Владимирович принялся сочинять новую (совсем другую) поэму.
Сначала она была названа «Тридевятый Интернационал». Затем появилось другое название, на котором Маяковский и остановился: «Пятый Интернационал».
Поэма начинается с «Приказа № 3». Третий номер появился из-за того, что поэт уже издал два стихотворных приказа: «Приказ по армии искусства» и «Приказ № 2 армии искусств». Первый приказ начинался со старого футуристского лозунга:
«Канителят стариков бригады
канитель одну и ту ж.
Товарищи! / На баррикады! —
баррикады сердец и душ».
Второй приказ был тоже весьма энергичным:
«Вам говорю / я – / гениален я или не гениален,
бросивший безделушки / и работающий в Росте,
говорю вам – / пока вас прикладами не прогнали:
Бросьте!
Бросьте! / Забудьте, / плюньте
и на рифмы, / и на арии, / и на розовый куст,
и на прочие мелехлюндии
из арсеналов искусств…
Мастера, / а не длинноволосые проповедники
нужны сейчас нам.
Слушайте!..
Нет дураков, / ждя, что выйдет из уст его,
стоять перед «маэстрами» толпой разинь.
Товарищи, / дайте новое искусство —
такое, / чтобы выволочь республику из грязи».
Третий приказ тоже был адресован деятелям искусства и подковыривал всех стихотворцев, кроме, разумеется, футуристов:
«Прочесть по всем эскадрильям футуристов, крепостям классиков, удушливогазным командам символистов, обозам реалистов и кухонным командам имажинистов».
А начиналась поэма «Пятый Интернационал» так:
«Где ещё / – разве что в Туле? —
позволительно становиться на поэтические ходули?!»
Затем Маяковский высказал (пожалуй, впервые) своё отношение к обстрелу памятников старины во время октября 1917 года:
«Громили Василия Блаженного. / Я не стал теряться.
Радостный, / вышел на пушечный зов.
Мне ль / вычеканивать венчики аллитераций
богу поэзии с образами образов».
Заявил Маяковский и о том, о чём он тогда мечтал:
«Я 28 лет отращиваю мозг
не для обнюхивания,
а для изобретения роз…
Я очень хочу / в ряды Эдисонам,
Лениным вряд, / в ряды Эйнштейнам».
Объяснять с помощью поэзии, для чего ему захотелось встать «в ряды» людей, о которых тогда все говорили, Маяковский почему-то не стал и перешёл на прозу:
«Я знаю точно – что такое поэзия. Здесь описываются мною интереснейшие события, раскрывшие мне глаза. Моя логика неоспорима. Моя математика непогрешима.
Внимание! / Начинаю. / Аксиома:
Все люди имеют шею.
Задача: / Как поэту пользоваться ею?
Решение: / Сущность поэзии в том,
чтоб шею сильнее завинтить винтом…
Постепенно, / практикуясь и тужась,
я шею так завинтил, что просто ужас».
Познакомив читателей с совершенно невероятным и непонятно к чему приводящим процессом «завинчивания» шеи, поэт сразу заговорил о своём отношении к зарубежным странам (тоном, как всегда весьма пренебрежительным):
«В том, что я сказал, / причина коренится,
почему не нужна мне никакая заграница.
Ехать в духоте, / трястись, / не спать,
чтоб потом на Париж паршивый пялиться?!
Да я его и из Пушкина вижу, / как свои / пять пальцев.
Мой способ дешёвый и простой:
руки в карманы заложил и стой».
И только после этого Маяковский принялся объяснять читателям, для чего он «завинчивал» шею, и в кого после этого превратился:
«Какой я к этому времени – / определить не берусь.
Человек не человек, / а так – / людогусь».
Откуда он взялся – этот невероятный «людогусь»?
Вот тут-то и кроется очередное косвенное свидетельство того, что Маяковский, шутя, стал называть ГПУ Главным Управлением Согласований, то есть ГУСом, а всех, кто работал там, «гусями», которые со своей гепеушной высоты видели гораздо больше того, что было доступно обычным людям.
Через два месяца в газетном очерке, напечатанном 24 декабря 1922 года в газете «Известия», поэт объяснит смысл этого слова:
«Вы знаете, что за птица Людогусь? Людогусь – существо с тысячевёрстой шеей, ему виднее».
Иными словами, свой новый статус «чекиста особого отряда» Маяковский представил иносказательно, изобразив себя «людогусем», то есть человеком, шея которого «завинчена винтом». И принялся осматривать землю с высоты птичьего полёта.
Это очень напоминает поэму «Человек», в которой поэт тоже возносился на небо и на протяжении веков обозревал с его высот Вселенную. Но теперь, став «людогусем», Маяковский получил ещё и необыкновенный слух:
«… не то что мухин полёт различают уши —
слышу / биенье пульса на каждой лапке мушьей».
Далее перечисление преимуществ «людогуся» по сравнению с простыми людьми продолжается. И следует рапорт:
«То, что я сделал, / это
и есть называемое «социалистическим поэтом»».
Таким образом, настоящим «социалистическим поэтом» может называться лишь тот стихотворец, кто сотрудничает с Лубянкой. Только тот, кто свою шею «завинтил винтом», может стать главнокомандующим всех людей:
«Чтоб поэт перерос веков сроки,
чтоб поэт / человечеством полководить мог,
со всей вселенной впитывай соки
корнями вросших в землю ног».
И вновь вспоминаются уже приводившееся нами слова поэта Владислава Ходасевича, летом 1922 года эмигрировавшего из страны Советов:
«Все известные поэты в те годы имели непосредственное отношение к ЧК».
Тем стихотворцам, которые ещё не общались с чекистами, Маяковский предлагал:
«Товарищи! / У кого лет сто свободных есть,
можете повторно мой опыт произвесть».
На этом первая часть поэмы завершается.