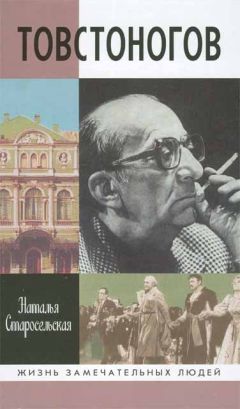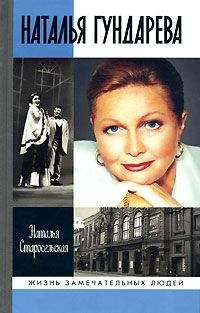Погребение в Александро-Невской лавре. Красота места. Немыслимо».
Это казалось действительно немыслимым. Кончилась целая эпоха — прекрасная, великая эпоха отечественного театра.
Анатолий Смелянский писал: «Похороны режиссера каким-то особым образом заставили подумать о его искусстве. Это был первый в его жизни спектакль, в котором он участвовал как молчаливый статист. Отпевание происходило мерно и торжественно, совершенно в духе его классических постановок, поражавших не только глубиной содержания, но и мощной внутренней силой, той завораживающей энергией, которая отличает высокую режиссуру. Отпевание шло ровно час, секунда в секунду. В строгом ритуале, как и в его спектаклях, был жесткий ритмический закон, притом, что и здесь сохранялась какая-то глубоко личная импровизация. Порой казалось, что слова старой молитвы звучат так, как будто они были сложены именно к этому случаю — так звучали в его спектаклях тексты Толстого или Достоевского. “Смертию смерть поправ” — финальная кода православного отпевания — вершила жизненный и художнический путь этого человека, подсказывала и формулировала главную тему его искусства. Разве не об этом — “смертию смерть поправ” — он поставил лучшие свои спектакли, от “Идиота” до “Истории лошади”?
Он был требователен и беспощаден к тем, с кем работал, совершенно чужд сентиментальности и утешительства. Он был человеком своего времени, своей страны. На протяжении десятилетий он, как канатоходец, сохранял и выдерживал чудовищную балансировку. Под конец, когда воздух страны стал иным и дышать, ходить стало легче, его ноги не выдержали, подкосились.
“Ныне отпущаеши раба Твоего”…
Гроб с телом Товстоногова установили на сцене БДТ. Вокруг сияло множество свечей из спектакля «Мольер», поставленного когда-то Сергеем Юрским. Я вспомнил, как пятнадцать лет назад художник Эдуард Кочергин поведал мне замысел булгаковского спектакля, вот этих самых вертикальных штанкетов с люстрами: они хотели тогда “зажечь воздух”.
Георгий Товстоногов зажег воздух нашего искусства и держал этот воздух зажженным больше тридцати лет».
Глава 8
ЗВЕЗДЫ ТОВСТОНОГОВСКОГО НЕБОСКЛОНА
Из дневника Олега Борисова:
«Май 24. Умер Товстоногов.
Это случилось вчера. Как говорят англичане, присоединился к большинству. Не просто к большинству, но лучшему…
Знатоки говорят, что в том мире человек должен освоиться. Что это трудно ему дается. Но у людей духовных, готовых к духовной жизни, на это уходит немного времени…
Со смертью человека с ним происходят самые обыкновенные вещи. Он перестает принадлежать своим близким, своему кругу. Кто-то имел к нему доступ — к его кабинету, к его кухне, — кто-то мечтал иметь, но так и не выслужился. Теперь все изменилось. Я могу говорить с ним наравне с теми, кто раньше бы этому помешал. И я скажу ему, что это был самый значительный период в моей жизни — те девятнадцать лет. И самый мучительный. Вот такой парадокс. Но мучения всегда забывались, когда я шел к нему на репетицию. Он очень любил и наше ремесло, и нас самих. Он исповедовал актерский театр, театр личностей. Мы имели счастье создавать вместе с ним».
Эту главу в контексте биографии Георгия Александровича Товстоногова ни в коем случае нельзя считать чем-то вроде лирического отступления. Она — необходимое логическое дополнение, пояснение этой удивительной личности, создателя и собирателя плеяды уникальных мастеров сцены — ведь, по точному выражению О. Борисова, Георгий Александрович «исповедовал актерский театр, театр личностей».
О каждом из них — без преувеличения! — могла бы быть написана монография: и о тех, кого уже нет, и о тех, кто надолго пережил своего Мастера, и о тех, наконец, кто, по словам Алисы Фрейндлих, успел вскочить на подножку уходящего поезда, всего несколько последних лет проработав с Товстоноговым.
И о тех, кто в силу разных причин покинул Большой драматический, оставив в душе Георгия Александровича незаживающую отметину. В их числе были и писавшие о нем Татьяна Доронина, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Юрский, Олег Борисов…
«Он обожал своих артистов, — вспоминала Натела Александровна, — чтобы скорее вернуться к ним, он, когда работал за границей, назначал по две репетиции в день. Уставал из-за этого страшно…
Многие считают, что его боялись в театре. Да, в каком-то смысле, наверное, так. Георгий Александрович требовал железной дисциплины, неукоснительного подчинения… Но я все-таки думаю, что не столько его боялись, сколько стеснялись — чего-то не знать, о чем-то не ведать. Он так умел вовлечь всех в общий процесс, в общее дело, что было неловко не соответствовать, выпасть из этого».
Актриса Валентина Ковель признавалась, как стыдно ей становилось, если в заграничной поездке она не могла сразу, в первые же дни, поделиться с Товстоноговым впечатлением от какого-нибудь известного музея или картинной галереи (а он ждал этого, всегда ждал!), потому что, как весь советский народ за границей, осматривала, в первую очередь, магазины, а не достопримечательности.
Артисты Большого драматического вспоминали, как, узнав о том, что кто-то еще не читал достаточно известного произведения, о котором кругом говорили, Георгий Александрович испытывал изумление, смешанное с искренней завистью: счастливый человек, вам еще только предстоит это наслаждение!..
Счастливейшие люди! Они прожили жизнь в эстетических измерениях, которые сегодня все дальше и дальше уходят от нас!..
Эрвин Аксер пишет в своих воспоминаниях: труппа Большого драматического «могла соперничать с лучшими европейскими коллективами. Ведущие актеры этого театра, мастера своего дела, ничем не уступали всемирно известным звездам, а возможно, и превосходили их умением соединить игру в ансамбле с индивидуальной виртуозностью. Именно ансамбль, воспитанный, сплоченный и управляемый режиссером, который сам — крупная, яркая личность, был, по крайней мере, по моему мнению, самым сильным и самым прочным магнитом БДТ. Правда, режиссер этот был также постановщиком, который, очистив сцену от натуралистического мусора в современных пьесах, избавился от оперной напыщенности в классическом репертуаре. Он обратился к лучшим традициям московского театра 20-х и 30-х годов и взял у Станиславского самую ценную составляющую его системы — то, что связано с актерской игрой».
Может быть, стоит внести одну поправку в слова известного польского режиссера: труппа Большого драматического не могла соперничать с лучшими европейскими коллективами, потому что была на протяжении нескольких десятилетий величайшей труппой в мире: по собранным в ней индивидуальностям, по ощущению театра-дома, по приверженности учению К. С. Станиславского об этике и эстетике в театре. По своей ансамблевости…