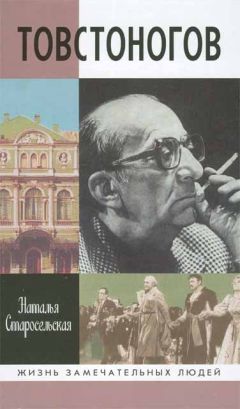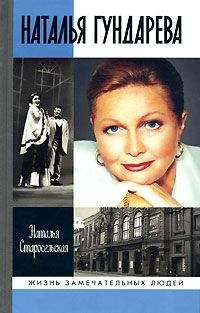Недаром Константин Рудницкий в конце 1980-х годов писал, что попасть в труппу нынешнего Большого драматического, пожалуй, труднее, чем в труппу МХАТа 1930— 1940-х годов.
В одном из интервью, датированных сентябрем 1988 года, Товстоногов говорил, что для него «каждый спектакль — заговор, некий художественный заговор, и он имеет сверхзадачу. То, ради чего ставится спектакль. В заговоре все участники равны и нет разницы между большой и малой ролью… Почему? Да потому, что, конечно, есть лидер, есть исполнители, но есть еще и тот человек, который стоит за углом и делает отмашку. Вот сейчас появится карета с царем, он не махнет вовремя — и заговор не состоится. Закон этот в театре абсолютно действителен. Важно только, чтобы каждый понимал свою функцию. Это момент не только художественный, методологический, но и этический…
У меня есть несколько таких художественных принципов, по которым я собирал труппу… Обязателен интеллектуальный уровень актера, без которого он не сможет заразиться целью заговора. Все важное, интересное в нашей жизни должно его касаться. И обязательна способность к импровизационному поиску в процессе работы… Я это повторяю всю жизнь как заклинание».
Невозможно объять необъятное и рассказать обо всех звездах, любовно, бережно зажженных Георгием Александровичем Товстоноговым. И даже подробный рассказ о нескольких из них увел бы далеко за пределы биографии Мастера, а потому давайте хотя бы совсем коротко вспомним некоторых из тех, кого уже нет на этой земле, и попытаемся понять, как тонко и точно ощущал Товстоногов природу артиста. Об этом, именно об этом говорил Георгий Алесандрович чаще всего на занятиях режиссерских лабораторий, обучая молодых коллег этому высокому искусству понимания артиста.
Вот какой характерный диалог приведен в книге «Беседы с коллегами»:
«РЕЖИССЕР Л. Как вы заставляете актера выполнять свой режиссерский рисунок?
ТОВСТОНОГОВ. Его не надо “заставлять”.
РЕЖИССЕР Л. Я иногда чувствую, что актер добирается до правды, но мне этой правды мало, и у меня возникает желание заставить его выполнить нужную задачу насильно.
ТОВСТОНОГОВ. Этого делать нельзя.
РЕЖИССЕР Л. Но в таком случае ваша режиссерская мысль останется невыраженной. Если спектакль четко выстроен, актер обязан четко воплощать рисунок своей роли. Ему же легче, если есть точное решение.
ТОВСТОНОГОВ. В невыстроенном спектакле актер работает хуже. Вы правы. Но если за этой выстроенностью режисер не добивается органической жизни артиста, если он просто вгоняет исполнителя в свой рисунок, он может задушить актерскую индивидуальность, а ее обязательно надо учитывать, особенно если это индивидуальность яркая и своеобразная. Если ее не учитывать, получится марионеточный театр. Надо добиваться точности, но только через актерскую органику, а не вне ее…
Я говорю сейчас о вашем внутреннем настрое. Не такой уж я идеалист, чтобы не представлять, что такое периферия. Но все равно надо стараться каждую репетицию превращать в совместный поиск. Бывает, у каждого режиссера, что ничего не получается, но я говорю о намерении.
РЕЖИССЕР Р. А что нужно для того, чтобы получилось?
ТОВСТОНОГОВ. Ухо надо иметь на актера — это так же важно, как музыканту иметь слух. Это обязательная предпосылка нашей профессии. Такое свойство дается от Бога, но оно поддается воспитанию самодисциплиной.
Индивидуальность актера легко умирает. Загонит режиссер исполнителя в рисунок ему несвойственный, не дождавшись его собственных проявлений, и он ничего оправдать не сможет, формально выполнит рисунок, и все. В вопросах художественной организации спектакля по технике можно прибегать к диктатуре, с артистами — нельзя. Я лично стремлюсь каждую репетицию превратить в поиск индивидуальных актерских проявлений. И не надо отвергать предложенное исполнителем только потому, что это не ваша находка. Это ложное режиссерское самолюбие и не имеет отношения к живому творческому процессу».
За артистами товстоноговской труппы стояло (как ни парадоксально может прозвучать это сегодня) и до сей поры стоит понятие определенной школы — умение работать в ансамбле, склонность к импровизации… Перечислять можно долго. Он не любил вводы и вторые составы — каждая роль была отточена в работе с конкретным исполнителем, и общий рисунок спектакля складывался именно из этих ювелирно гравированных характеров, черточек, общих счастливых находок.
В предисловии к «Беседам с коллегами» Константин Рудницкий отмечал: «Товстоногов “деспотичен”, как и всякий подлинный режиссер. В его композициях, обдуманных до самомалейших мелочей, каждый актер знает свое место и безропотно выполняет все требования автора спектакля. Нельзя и помыслить о том, чтобы нарушить установленную им на репетициях мизансцену. Нельзя и вообразить себе непредуказанное движение или отсебятину интонации. То, что найдено — найдено раз и навсегда. Но жесткая структура товстоноговского спектакля возникает в непринужденном процессе совместных репетиций, в общих поисках, пробах, промашках и находках, поэтому актер законно ощущает себя соавтором режиссера и прекрасно знает, где и когда ему позволено повысить тон, дать выход своему темпераменту».
Порядки в Большом драматическом были жесткие: любому режиссеру известно, как трудно отменить спектакль, если неожиданно заболевает артист — необходим второй и даже третий состав. Но Товстоногов всегда шел на замену спектакля — для него это было проще, чем замена конкретного исполнителя. Даже если заболевал исполнитель не главной роли. «Укрупнение персонажа — одно из важнейших правил товстоноговской сцены, — писал К. Рудницкий. — Правило это продиктовано желанием взглянуть на героя как бы впервые, нынешним взором, не сообразуясь ни со сценическим каноном, ни с хрестоматийным стереотипом… После того как репетиции закончены и роль сделана, никакие отклонения в сторону для Товстоногова нетерпимы. Найденное однажды — найдено если не навсегда, то, как минимум, на весь срок жизни спектакля».
Именно потому никакие дублеры были для него невозможны.
Театровед Татьяна Злотникова в статье «Актеры Георгия Товстоногова» пишет: «Актеров Товстоногов любил. Может быть, именно потому школу и создал. Причем любил не кого-то одного, ну двух-трех, с кем комфортно было работать и по кому мерил всех остальных. Любил актеров “как класс”, любил смотреть на них во время спектаклей, любил их импровизации во время репетиций, любил их реакции понимания, любил их изменения от роли к роли.
Любовь была требовательной, подчас обременительной, подчас ревнивой: ревновал он, ревновали его. <…>