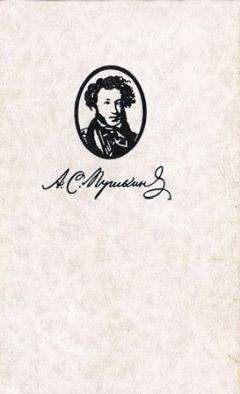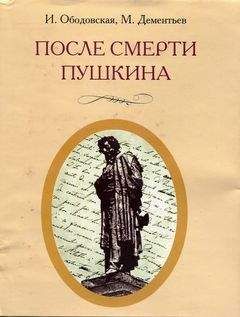VII
Друзья и знакомые, видевшие Пушкина в последние два дня накануне поединка, свидетельствуют в один голос, что Пушкин был бодр и спокоен. О возможной дуэли знали три лица — Александра Николаевна Гончарова, Евпраксия Николаевна Вревская, которая в эти дни жила в Петербурге у своей сестры А. Н. Вульф, и, наконец, княгиня В. Ф. Вяземская. Александрина, обожавшая поэта, хранила тайну, потому что, очевидно, того хотел Пушкин. Евпраксия Николаевна была чужой человек для друзей Пушкина. А Вера Федоровна узнала о дуэли слишком поздно, когда предотвратить ее не было никакой возможности.
Пушкин ничем не обнаруживал своего волнения. Послав письмо Геккерену, он как будто сбросил с себя тяжесть, которую влачил с 21 ноября, когда он сочинил первый проект письма. Утром 27 января, когда не ладились дела с секундантом и д'Аршиак посылал поэту свои настойчивые записки, Пушкин все-таки казался окружающим совершенно спокойным. В день дуэли поэт встал в восемь часов утра, ходил по кабинету и что-то весело напевал. В это утро он работал над материалами по истории Петра I[1214], занимался делами «Современника» и успел написать письмо А. О. Ишимовой[1215]. Он поручал ей перевести для журнала некоторые пьесы Барри Корнуолла[1216]. Это было последнее письмо поэта.
Дуэль с Дантесом была не первая в жизни Пушкина. Он не раз стоял под пулями, сохраняя спокойствие. Но те поединки были в годы беззаботной юности, а теперь у него была жена, четверо детей и сложные отношения с людьми, ненавистными и любимыми. А главное, лет пятнадцать назад жизнь казалась легкой игрою и как-то не хотелось верить, что человек несет какую-то ответственность за свой жизненный путь. Теперь не то. Пушкин сознает эту ответственность. Пушкин знает также, что «на свете счастья нет, но есть покой и воля»[1217], но для него нет ни счастья, ни покоя, ни воли… «Усталый раб» напрасно замыслил побег. Его стерегут какие-то люди, темные и злые. Нет исхода. Но Пушкин не был человеком малодушным. Надо мужественно смотреть в глаза судьбе. Он чувствовал себя, как на войне, — солдатом. Никаких сентиментальных мыслей и сердечных угрызений у него не было. Он думал, что поставлен в такие условия, когда нужно драться, и он со всею страстностью, ему свойственной, готов был к бою. Ему казалось, что если он убьет врага на поединке, то это доставит ему удовлетворение.
В начале пятого часа он и Данзас ехали по Дворцовой набережной. Им повстречалась в экипаже Наталья Николаевна, но Пушкин смотрел в другую сторону и не видел жены. В эти дни как раз были устроены для великосветской публики катанья с гор, и многие возвращались оттуда. Навстречу Пушкину ехал знакомый конногвардеец[1218], который успел крикнуть: «Что вы так поздно едете, все уже оттуда разъезжаются…» На Неве Пушкин, шутя, спросил Данзаса: «Не в крепость ли ты меня везешь?»
За городом они догнали сани, в которых ехали Дантес и д'Аршиак. К Комендантской даче противники подъехали одновременно. Был небольшой мороз, но дул сильный ветер. Секунданты решили подойти к небольшому сосновому леску. В полутораста саженях от дачи нашли подходящее место, прикрытое кустарником. Снег был по колено. Пришлось протаптывать дорожку. Этим занялись оба секунданта и Дантес. Пушкин сел на сугроб и равнодушно смотрел на работу. Приготовили площадку в аршин шириною и в двадцать шагов длиною. Барьер в десять шагов обозначили шинелями. Пушкин раза два нетерпеливо спрашивал: «Ну, как? Готово?..» Противники, получив пистолеты, стали каждый в пяти шагах от барьера. Данзас махнул шляпой. Пушкин сразу пошел вперед. Дантес сделал четыре шага и остановился. Первым выстрелил Дантес. Пушкин упал на шинель головою в снег. Секунданты и Дантес бросились к нему, но он, опираясь на левую руку, приподнялся и сказал: «Attendez, je me sens assez de force pour tirer mon coup…» («Подождите, у меня достаточно сил, чтобы выстрелить…»)
Дантес вернулся к барьеру и стал боком, прикрыв грудь правой рукой. Пушкин прицелился и выстрелил. Дантес упал. Поэт подбросил пистолет и крикнул: «Браво!» Но силы ему изменили, и он опять упал в снег головою. Когда он очнулся, он спросил, жив ли противник. Ему сказали, что он ранен, но жив. «Странно, — сказал поэт, — я думал, что его смерть доставила бы мне радость, но я чувствую, что это не так…»
Пуля слегка ранила Дантеса. Рана Пушкина была тяжелая. Он терял много крови. Разобрали забор из тонких жердей, чтобы сани могли подъехать, где лежал раненый поэт. Его с трудом усадили. У Комендантской дачи стояла карета, присланная Геккереном. Ввиду тяжелого положения Пушкина д'Аршиак предложил перенести его в карету. Данзас согласился. Дорогой Пушкин разговаривал и припоминал случаи на поединках, ему известных. Пушкина привезли домой в шесть часов вечера. Когда камердинер выносил его из кареты, Пушкин спросил его: «Грустно тебе нести меня?..»
Его внесли в кабинет. Наталья Николаевна была дома, но Пушкин просил не пускать ее к нему, пока он раздевался, менял белье и укладывался на диван. Послали за врачами. Первыми приехали Шольц[1219] и Задлер[1220]. Когда Задлер уехал за какими-то инструментами, Пушкин спросил Шольца, опасна ли рана. Врач сказал, что опасна. «Может быть, смертельна?» — спросил Пушкин. Врач и этого не отрицал. Пушкин потер лоб рукою и сказал: «Надо устроить мою семью!..»
Потом приехал придворный хирург Арендт. Он также признал положение безнадежным. Пуля попала в нижнюю часть живота, раздробила крестец, и тогдашняя хирургия была бессильна спасти раненого. Ему клали лед на живот и давали прохладительное питье. За Пушкиным ухаживал его домашний врач И. Т. Спасский[1221]. Он оставил записки о последних днях Пушкина. «Я старался его успокоить, — пишет Спасский, — он сделал рукою отрицательный знак, показывавший, что он ясно понимает опасность своего положения…» «По желанию родных и друзей Пушкина, — сообщает далее доктор, — я сказал ему об исполнении христианского долга. Он тотчас же на это согласился.
— За кем прикажете послать? — спросил я.
— Возьмите первого ближайшего священника, — отвечал Пушкин.
Послали за отцом Петром, что в Конюшенной…»
«Он скоро отправил церковную требу[1222]: больной исповедался и причастился святых тайн…»
Пушкин спросил, тут ли Арендт[1223]. «Просите за Данзаса, за Данзаса, он мне брат», — настойчиво повторял больной, зная, что Арендт увидит царя: поэт боялся за судьбу своего секунданта. Арендт поехал во дворец. Он вернулся к Пушкину в час ночи с запискою царя. В. А. Жуковский, в своем письме отцу поэта, распространявшемся в списках и в иной, сокращенной редакции напечатанном в пятой книжке «Современника», рассказывает об этом визите Арендта и о царском «письме» в официальных выражениях, влагая в уста поэта верноподданнические слова. Остается неясным, кому было адресовано «письмо» и даже было ли оно. Его Пушкин не получил. Вероятнее, что Арендт словесно передал царские пожелания и обещания. «Благочестивейший» государь «прощал» поэта и рекомендовал умирающему исполнить «христианский долг», — совет излишний, потому что Пушкин совершил обряд за пять часов до приезда Арендта по желанию близких людей и по своей доброй воле. Существенно было то, что царь обещал взять на свое попечение жену и детей поэта. Пушкин будто бы был растроган и сказал сентиментальные и патриотические слова в духе Василия Андреевича Жуковского. Эти слова явно выдуманы мемуаристом. Доля истины была только в том, что Пушкин после выстрела в Дантеса сам с изумлением заметил вдруг, как угасло в нем чувство гнева. Он мог так же безгневно «простить» и своего коронованного соперника и врага, как он простил Дантеса. Это возможно. А. Аммосов[1224] со слов самого Данзаса сообщает, что, отдавая свой перстень приятелю, Пушкин сказал, что «не хочет, чтобы кто-нибудь мстил за него и что желает умереть христианином». Свою легкомысленную жену ласкал и ободрял и несколько раз упоминал об ее чистоте и невинности. Уверенный, что скоро умрет, Пушкин стал равнодушен к тому, что недавно еще считал важным: мнения салонов, клевета врагов, интриги М. Д. Нессельроде все казалось теперь ничтожным. Самолюбие, гордость, ревность — все это уже утратило свой смысл.