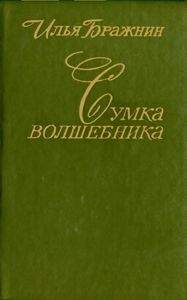Добрый и верный друг Ахматовой Осип Мандельштам утверждал, что стихи Ахматовой «сделаны из голоса, составляют с ним одно неразрывное целое, что. современники, услышав этот голос, богаче будущих поколений, которые его не услышат».
Мне довелось, посчастливилось слышать голос Ахматовой — этот навеки запомнившийся голос, и я самом деле чувствую себя богаче тех, кто не слыхал его.
Однако вернёмся в неуютный, холодный зал Городской думы Петрограда тысяча девятьсот двадцать второго года. Не только чтение Ахматовой своих стихов было своеобычным, впечатляюще особым, но и самый выбор читаемых стихов. Ахматова не читала стихов, которые были особенно популярны. Не читала стихов, в которых встречались эффектные, выигрышные для чтеца строфы и строки вроде «Я на правую руку надела Перчатку с левой руки», или «Как ты хорош, проклятый», или же знаменитая концовка одного из стихотворений «Задыхаясь, я крикнула: «Шутка Всё, что было. Уйдёшь, я умру». Улыбнулся спокойно и жутко И сказал мне: „Не стой на ветру"».
Подобных строк в этот вечер я не слышал из уст Ахматовой. Было такое ощущение, что она никакой специальной программы к этому выступлению не готовила и стихов для него не отбирала — читала то, что лежало в памяти, кстати сказать, на редкость цепкой, и в сердце. Мне кажется, что в её стиховом заповеднике вообще не было ни лучших, ни худших стихотворений, как у птицы нет ни худшей, ни лучшей песенки, а только та, что поётся сейчас. В этот вечер она по большей части читала стихи из только что вышедшей в свет её книги «Подорожник» и лишь немногие из предыдущего сборника «Белая стая». Стихи шли не резко взрывные, а задумчивые. Эмоции были упрятаны в них как бы внутрь строк. Много прекрасных стихов. Ахматовой услышал я в тот вечер. Многие из них я знал и раньше. Но в тот вечер они прозвучали для меня по-новому — сильней и ярче. Ведь они теперь были не только «сделаны из голоса» Ахматовой, но стали самим этим голосом, слились с ним совершенно, неразделимо. Это было великолепное волхвование, пир чувств, волшебство, наслаждение, с которым ничто сравниться не могло.
Я оставил вначале холодный, а к концу душный зал Думы и вышел на Невский уже около полуночи. На город шла колдовская белая ночь с её зримо мерцающим на углах и карнизах зданий воздухом, с таинственно прекрасной не то вечерней, не то утренней зарёй...
Всё это привиделось вдруг как нарочно поставленная декорация к волшебному действу, которому я только что был свидетелем и, как мне кажется, участником его, там, за стенами здания с четырёхгранной башней, увенчанной часами, которые, как нарочно, медленно и незвонко пробили двенадцать.
Я схожу с тротуара, иду посредине улицы. Отчётливо цокая подковами по неповторимым, сейчас уже не существующим торцам Невского, пробежала нешибкая извозчичья лошадь. Я иду прямо на Адмиралтейскую иглу: надо мной лёгкое прозрачное небо, вокруг меня волшебство белой ночи, во мне волшебство голоса Ахматовой, читающей «Но когда над Невою длится Тот особенный чистый час...»
Для меня он длится и нынче, полстолетия спустя, этот «особенный чистый час», возвещённый неповторимым голосом Анны Ахматовой.
С Анной Ахматовой, жившей каждое лето по соседству со мной в одной из литфондовских дач в Комарове под Ленинградом, я виделся довольно часто. К сожалению, я не сразу догадался делать записи, относящиеся к встречам с ней. Но начиная с шестидесятого года я уже кое-что записывал, и некоторые из разговоров почти со стенографической точностью. Вот одна из таких записей.
Разговор происходил вечером двадцать первого сентября тысяча девятьсот шестидесятого года в Комарове, на даче у Ахматовой (эту двухкомнатную неказистую дачку Анна Андреевна называла Будкой). Она была предупреждена о моём приходе, и потому меня ждали. В этом я убедился, едва переступив порог ахматовского жилья. Обычного в доме беспорядка не было. Всё прибрано. Анна Андреевна сидит за письменным столом. Он невелик, узок и сделан из тёмного дуба. Настольной бумагой не застлан. На нем вазочка с несколькими розовыми астрами. Свету в комнате немного — ровно столько, сколько надо для того, чтобы не бросались в глаза предательские морщинки, ровно столько, сколько благоприятствует негромкому разговору, освещаемому опытом прожитого и затеняемому душевной сдержанностью, хотя одновременно и душевно открытому. Передавая этот разговор, я обозначаю собеседников одной и той же буквой алфавита: Анну Андреевну Ахматову тремя «А», автора — одним. Начальных фраз не упомнил.
А. А. А. Чудное лето какое.
А. Бабье лето... А в самом деле. Имеет это выражение какой-нибудь смысл? Бывает у так называемых баб так называемое бабье лето?
А. А. А. По-видимому.
Анна Андреевна улыбается. Она сидит передо мной красиволицая, несмотря на свои семьдесят лет, осанистая, спокойная и сдержанно открытая. На ней свободная розовая блуза. На плечах, полных и покатых, чёрная шаль со светлой каймой. Очень хороша голова.
А. Расскажите о себе. О стихах, о прозе, обо всём. Меня всё интересует, что с вами происходит.
А. А. А. О стихах. Я уж устала рассказывать. Договор заключила. Книжка должна выйти. Это серия «Советская поэзия».
А. Которая с золотом?
А. А. А. Да-да. Как коробки конфетные. Там ещё автобиография обязательно нужна. Написала. Первый раз в жизни. Никогда не писала про себя. Хлопот с книжкой ужасно много. Статью вступительную надо к сборнику. Я говорю — пусть Сурков пишет. Он редактировал последний сборник. А он где-то в Австралии. Ну, подождут. Ездят нынче недолго.
А. А я, знаете, нынче тоже вдруг стихи начал писать. Честное слово. Много-много восьмистиший вдруг выпалил. Вот послушайте.
Я читаю несколько восьмистиший из только что написанного мной большого цикла «Стоцветник».
А. А. А. А смотрите, эти стихи у вас почти все о природе. Это Комарове вам дало. То, что вы здесь живёте. Не напрасно, видите, вы здесь.
А. Да. Наверно. А счастливая у нас всё-таки профессия. Где ни живёшь, что ни делаешь — всё нам впрок, всё годится. Всё потом как-то входит в нашу работу, хотя внешне иной раз это в ней и незаметно.
Я вспоминаю свою писательскую практику во время войны, когда был военным корреспондентом «Правды» и армейской газеты. Мы говорим некоторое время о работе писателя тех военных лет. Заговорили, естественно, об Илье Эренбурге, о прекрасных его военных очерках, о его сегодняшней работе.
А. А. А. Вы читали мемуары Эренбурга в «Новом мире»?
А. Читаю. Только что привёз из города номер восьмой «Нового мира».
А. А. А. Девятый номер, где продолжение, интересней. Если говорить о мемуарах вообще, то, по-моему, как-то неверно их пишут. Сплошным потоком. Последовательно. А память вовсе не идёт так последовательно. Это неестественно. Время как прожектор. Оно выхватывает из тьмы памяти то один кусок, то другой. И так и надо писать. Так достоверней, правды больше. А то ведь как выходит — надо по заданию себе писать связно и последовательно, а материал выпал, не помнится всё в связи. И начинает человек сочинять недостающее, выдумывать, и правда уходит...