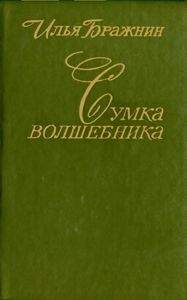А. Белые ночи в Ленинграде хороши очень. Но севернее, в Архангельске, в Мурманске, они ещё лучше. Здесь они пленительны потому, что пленителен Ленинград белой ночью. Их город красит. А там они хороши сами по себе. Но оставим поэтические белые ночи и вернёмся в прозаическую больницу. В какую вы больницу попали?
А. А. А. О, в самую обыкновенную. И это лучше всего.
А. Уж и лучше... Но как же всё-таки оно было?
А. А. А. Было совершенно удивительно. Я такого трогательного отношения, такой трогательной внимательности вовек не видала, не испытывала на себе. Нас было несколько женщин в палате. Они все следили за каждым моим движением. Подходили. Спрашивали, не надо ли мне чего-нибудь. Переворачивали. Звали сестёр. Причём всё это не оттого, что я была им известна. Они не читали никогда меня. Ни одной строки. Они ничего обо мне не знали. Спрашивали мою фамилию — Ахметова или Ахматова? Это было человеческое. Я так тронута была. Я запомнила это навсегда.
Анна Андреевна волнуется, рассказывая о том, как трогательно её соседки по палате в больнице ухаживали за ней. В голосе очень добрые нотки. Я с удовольствием смотрю на неё, выслеживая эти добрые нотки. Потом вдруг подумал, что длинный рассказ и вообще наша долгая беседа утомили её, — всё-таки семьдесят, это не шутка. Я поднимаюсь с места, чтобы распрощаться.
А. Ну ладно. Пора и честь знать. Вы устали. Я пойду.
А. А. А. Ну вот. Я вас разжалобила. И вы зажалели меня.
Анна Андреевна смеётся. Очень хорошо смеётся, по-доброму, с душевной лёгкой весёлостью. Но она в самом деле устала. Полчаса тому назад, когда я в середине нашего разговора сказал: «Ну, что ж, гоните меня», Анна Андреевна с живостью и открытой приветливостью остановила меня. «Погодите. Посидите ещё». Теперь она стала подниматься. Я отвернулся к окну. Ей было бы до очевидности неловко, если бы я наблюдал, как тяжело и трудно ей подняться с кресла...
Хочу рассказать, хотя бы коротко, ещё о двух встречах с Ахматовой — в августе и сентябре тысяча девятьсот шестьдесят второго года. Та же Будка в Комарове. Вечер. Анна Андреевна за тем же письменным столом. Только шаль на плечах её не чёрная, а белая шёлковая.
Анна Андреевна вообще любила шали. Они живописны, а кроме того, хорошо драпируют и скрывают печальные следствия работы времени. Впрочем, она питала слабость к шалям и всякого рода живописным драпировкам и в молодости.
Два года, прошедшие со дня описанной встречи, не прошли бесследно. Анна Андреевна выглядит усталой. Ей, видимо, уже трудно принимать гостей, трудно всё, даже, как мне показалось, трудно сидеть. Кажется, только одно нетрудно — мыслить. Ум её бодр, речь ясна и незатруднена.
Я принёс с собой часть рукописи только что законченной книги «Сумка волшебника». После нескольких приветственных фраз и обмена текущими новостями л говорю, что хотел бы прочесть одну главу из новой своей книги, ту, которая трактует законы писательского дела, его подоплёку, его сложности и неурядицы. Анна Андреевна выражает живейшую готовность слушать:
— Да, пожалуйста. Почитайте.
Я читаю главу «Чтобы быть писателем», известную читателям «Сумки волшебника». Большую часть главы занимает подробнейший анализ пушкинского «Пророка». Выбирая именно эту главу для чтения, я рассчитывал на то, что материал её может заинтересовать Анну Андреевну, которая много занималась в последние годы Пушкиным и писала о нём. К вящему моему удовольствию, оказалось, что я не ошибся. Прослушав прочитанное, Анна Андреевна сказала:
— Очень интересно. Хорошо. Да. Хорошо. И очень ко времени. О высоком назначении поэзии сейчас надо говорить. Нынче ведь золотой век поэзии открывается. Мне вот пишут из разных мест — как поэзию читают! Когда сборники новых стихов приходят в книжный магазин, их мгновенно расхватывают. И авторы этих сборников ведь совсем молодые поэты, ещё, по существу, никому не известные. Книжечки стихов с новыми неведомыми именами раскупаются быстрее, чем книжечки многих очень известных поэтов... Да. Начинается золотой век поэзии, как и в дни Пушкина. Я говорю об этом мальчикам, которые приходят ко мне со стихами. Они не понимают ещё этого. Они никакого золотого века не замечают. Ничего, потом заметят, почувствуют и поймут.
Некоторое время мы ещё продолжаем говорить о поэзии и поэтической молодёжи, которой всегда много вокруг Анны Андреевны. Потом она возвращается к разговору о прочитанном мной, о писательском деле, о Пушкине.
— У вас в конце есть, что таланту вредны фимиамные воскурения. А хула? Постоянное дёрганье? Это как, по-вашему? Ведь что выносил Пушкин. Ужасно. Ведь при жизни, после двадцатых годов, о нём никто доброго слова не сказал. Я горы журналов переворошила. Нигде ни слова одобрения. Только брань. Только хула. В результате Пушкин перестал печатать новые свои стихи. Ни «Медный всадник», ни лучшие лирические стихи Пушкин не печатает. Печатал вещи вроде «Песни западных славян» или переводы из древних. И статьи. В статьях, впрочем, он тоже стал говорить не в полный голос. Только в письмах ещё некоторое время сохраняются пушкинские мысли — такими, какими их хотел выразить Пушкин. Но потом и в письмах он стал осторожнее, предпочитал уже молчать. Помните, в ранние годы — эпиграммы на Воронцова и других. «Полу-милорд, полу-купец» и так далее. А о Бенкендорфе? Ни слова. А если сравнить роль Воронцова и Бенкендорфа в жизни Пушкина... Ведь Бенкендорф был злейший и подлейший враг Пушкина, который буквально не давал ему вздохнуть свободно. И против этого своего злейшего врага нет у Пушкина ни строчки, ни слова, ни эпиграммы, ни намёка на выпад какой-нибудь. Полное молчание. Укрылся и замолчал... Какое страшное молчание.
Анна Андреевна останавливается, растревоженная, взволнованная. Некоторое время после того, чтобы дать ей отдохнуть, я перевожу разговор на вещи обычные, на всё, что вокруг нас. Потом я прошу Анну Андреевну почитать что-нибудь. Она не заставляет себя долго просить.
— Хорошо. Почитаю вам. Вы не знаете этого. «Поэма без героя». Я двадцать два года работаю над ней. Два отрывка напечатала в последней моей книге.
Анна Андреевна стала читать по большой рукописи. Сперва «Вступление»:
Из года сорокового,
Как с башни, на всё гляжу.
Как будто прощаюсь снова
С тем, с чем давно простилась,
Как будто перекрестилась,
И под тёмные своды схожу.
За вступлением последовала первая часть — довольно большая, около двухсот строк. Вот как записано в моём дневнике содержание этой прослушанной первом части: «Идут размышления, предчувствия, воспоминания, лирические наплывы. Врываются ряженые. Карнавальная сумятица в ночь под Новый год. Пляска теней — масок. Всё это видится во сне и напоминает сцену из пушкинского «Гробовщика». Разговор с кем-то непришедшим, зазеркальным. Гость из будущего, и многое другое — смутное, алогичное, с возвратом в Петербург тринадцатого года и перебивом современностью».