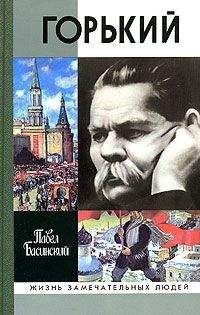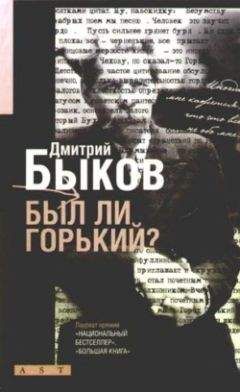Однако в том-то и дело, что он не желал не только их жалости, но и понимания. Жалости не хотел, потому что, по выражению уж скончавшейся бабушки, строг и заносчив стал.
А понимания?
Во-первых, он и сам себя не понимал. А во-вторых, как раз понимания со стороны «людей» инстинктивно, а может быть, уже и сознательно не желал. Понять — значило сделать своим. Но своим его не удалось сделать даже бабушке Акулине. Даже ей он не позволил оформить свою душу, а тем более разум. И как же позволить сделать себя своим ворам и грузчикам? Или добряку Деренкову? Или вот Марье?
Да ведь он только что выбрался из «людей»! «Выломился» из этой среды, по выражению Льва Толстого. Его не смогли сделать своим мастера-богомазы в иконописной мастерской, повара и матросы на пароходе «Добрый», где Алеша работал посудником. Все проиграли сражение за его душу. Даже такой человек, как повар Смурый, приучивший к чтению книг.
К фактам, изложенным в биографической трилогии Горького, надо относиться с уважительным, но сомнением. Слишком уж очевидна мифотворческая сторона этих повестей. А существовал ли гвардии отставной унтер-офицер Михаил Акимович Смурый? Может, не было его?
Горький пишет о Смуром в заметке 1897 года: «Он возбудил во мне интерес к чтению книг. У Смурого был целый сундук, наполненный преимущественно маленькими томиками в кожаных переплетах, и это была самая странная библиотека в мире. Эккартгаузен лежал рядом с Некрасовым, Анна Радклиф с томом „Современника“, тут же была „Искра“ за 1864 год, „Камень веры“ и книжки на украинском языке».
Первый биограф Горького Илья Груздев признал этого персонажа «В людях» за живого человека. И нам вряд ли есть смысл сомневаться в реальности его бытия. А все же?
В «Биографии», написанной несколько ранее, в 1893 году, на что обращает внимание недоверчивый исследователь жизни Горького Лидия Спиридонова, повара Смурого нет и в помине. «Для чтения книги покупались мной на базаре», — пишет Горький о жизни на пароходе, вспоминая вечерние беседы с матросами и служащими кухни. И — ни словечка о «сундучке». Вместо Смурого упоминается старший повар Потап Андреев, который сажал мальчика на колени, выслушивал его рассказы (жизненные или вычитанные из книг?) и говорил: «Чудашноватый ты парень будешь, Ленька, уж это верно!»
Нет о Смуром в переписке Горького с Груздевым. Это кажется несколько странным, так как Груздев обстоятельно расспрашивал Горького о реальных истоках куда менее значимых героев его автобиографической трилогии. А слона как будто бы не заметил. Но ведь Смурый несомненно один из главных, если не самый главный герой «В людях», после Алексея, конечно.
Зато одно из ключевых мест в своем известном «Слове о Горьком» (1968) отвел Смурому Леонид Леонов. Он не раз лично общался с Горьким и в Сорренто, и в СССР. Леонов хорошо чувствовал Горького как фигуру, что позволило ему написать свое замечательное «Слово», при всех скидках на советскую риторику, неизбежную в празднование 100-летия «пролетарского писателя»…
«Все в особенности важно в ней (в трилогии Горького. — П. Б.), — пишет Леонов, — но <…> по утвердившемуся в моей художнической практике приему я уделил бы наибольшее время рассмотрению привычного, только что брошенного в борозду зерна, из которого впоследствии возникла эта поразительная, на рубеже двух столетий, человеческая вспышка. И в самом зародыше зерна я поместил бы встречу юного поваренка Алеши Пешкова со скромным книжным сундучком, где хранились старопечатные сокровища унтера Смурого. Для подростка это было все равно, что в дремучем лесу найти связку волшебных ключей к даже не подозреваемым дверям громадного, вдруг расступившегося мира».
Таким образом Леонов указывал на важность «самого выбора точки для обозрения горьковской биографии». Здесь не случайно это слово — «выбор». В самом деле не столь важно: существовал ли в природе повар-книгочей Смурый? Важны те «точки обозрения», те вехи на пути постижения духовной биографии Горького, которые предусмотрительный автор расставил нам.
Если бы Смурого не было, его нужно было бы выдумать. Как и особого бога бабушки. Как и злого Бога дедушки. Как и символику с лягушками. Как и многое другое, без чего трилогия Горького перестанет быть художественным произведением, а кроме того — философски насыщенным духовными исповедью, проповедью.
Смурый с его «колдовским» сундучком, набитым принципиально разными по смыслу книгами, — это новый учитель еще не сформировавшегося русского Заратустры. Его учение Алеша должен принять в себя, в самое сердце свое. Чтобы затем «убить» это в себе и двигаться дальше. Книги, покупаемые на базаре во время стоянок парохода, исходя то ли из доступной цены, то ли из-за привлекательной обложки или названия (Эккартгаузен! «Камень веры»!), — это слишком понятно и неинтересно.
Появление Смурого дает процессу книжного образования мальчика лицо. И не важно, что это лицо изрядно выпивающего малоросса, бывшего унтера. Это видит Горький и позволяет понять это проницательному читателю. Но Алеша-то находится в зачарованном лесу исканий, сомнений. И потому Смурый в его представлении — это Колдун и сундук его колдовской.
Этот сундук предлагает ему множество ответов на мучительные вопросы бытия, и Смурый испытывает Алексея ими, как дьявол искушал Христа в пустыне. Однако отличие в том, что дьявол-то задавал Христу искушающие вопросы, на которые у Христа были точные ответы, а Смурый предлагает искушающие ответы, на которые Алексей задает сомневающиеся вопросы.
«Путь к истинной вере лежит через пустыню неверия» — эта формула «истинной», по пророку Максиму, веры прозвучит в «Жизни Клима Самгина».
Это будет евангельская истина, но с перевернутым и прямо противоположным смыслом. Христос преодолел пустыню (в метафизическом плане — духовную), потому что не только верил в поддержку Своего Отца Небесного, но твердо знал о Его существовании. Пустыня была нужна Христу, чтобы утвердиться в уже существовавших вере и знании. Пешков-Горький превращает пустыню в единственно возможный путь к истинной вере и знанию, то есть предполагает, что существующие вера и знание ложные.
Образ Смурого, как и положено Колдуну, двоится в наших глазах. То это милейший человек, добрый к Алексею и ко всем на пароходе, то злой и своенравный пророк.
«В каюте у себя он сует мне книжку в кожаном переплете и ложится на койку, у стены ледника.
— Читай!
Я сажусь на ящик макарон и добросовестно читаю: