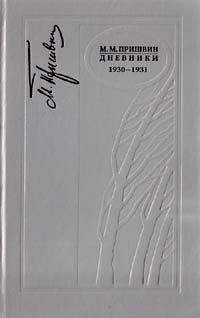Гамза (авантюрист) — антирелигиозник, выгнанный из директоров музея, пишет работу о Троице, в которой доказывает, что Троица есть явление чисто феодально-хозяйственного порядка. Вследствие нехватки денег для жизни в течение 3-х месяцев он предпринимает поездку к митроп. Сергию с целью уговорить его совершить турне по СССР с диспутом: «Митрополит Сергий и лектор Гамза…»
Весна воды
12 Марта. С неделю или больше это продолжалось, и все не верилось: слишком рано, тем более, что вот уже не помню сколько-то лет весна обманывала. Сегодня утром тает в тумане, невозможно не верить. Трубецкой слышал от многих, будто показались отдельные грачи.
Помню первый аэроплан в Петербурге, Мережковский видел в летчиках нового человека-птицу. В какой-то комиссии мы подбирали русское слово для пилота, и я предложил цирковое «полетчик». Потом стало летчик…
И вот прошло время, четверть века. Летают аэропланы, рычат, и люди не дают себе труда поднять голову — поискать его в небесах.
Я сказал Леве:
— Какая неприятная, злая вещь и как-то совсем чужая.
Лева на это:
— Но представь себе, что аэроплан у тебя свой, как фотоаппарат.
Пришлось подумать.
— Фотоаппарат, — говорю, — маленький, ему не завидуют, но аэроплан, если мой собственный полетит — мне да… мне было бы очень хорошо, если бы не совестно: я ведь наверно буду знать, что лечу один, что человек у земли холодной, снежной, идет злой, у земли, разогретой солнцем, завистливый. Мне бы такое обладание не только не доставило радости, но лишило бы последнего счастья, доставляемого мне скромным трудом… Вот если бы о моем собственном аэроплане я мог бы сказать: это наша машина.
— Как железная дорога? — спросил Лева.
И тут мне опять пришлось задуматься, потому что на своем месте сидишь в вагоне и в то же время наша дорога: все едут. Но никогда не чувствуешь к железной дороге, к нашему, того, что к своему? Ответ: потому что эта дорога создавалась без моего личного участия.
Моспушторг.
Егоров:
— Зайдите… Некогда, говорите, убили лисицу. Зайдите, вышло… такое, 30 лет окладывал лисиц, и не было такого.
Я зашел. — Ну, что же? — Зайца обложил. (Обложили лисицу, стали затягивать, увидели выходной след — выругались! Пошли по следу, обложили и оказалось, — это заяц вышел из оклада, а лисица осталась на старом месте.)
После манифеста мало-помалу определяется положение: сразу вскочили цены на деревенские продукты, это значит, мужик стал продавать в пользу себя, а не распродавать ввиду коллективизации. И заметно многие перестали думать о войне, что, по всей вероятности, и более верно: не будет войны. Сколько же порезано скота, во что обошелся стране этот неверный шаг правительства, опыт срочной принудительной коллективизации. Говорят, в два года не восстановить. А в области культуры, разрушение всей 12-летней работы интеллигенции по сохранению памятников искусства?
14 Марта. Чуть подморозило. Пасмурно. Ветер. Зоя и мы с Павловной едем поздравить Дунечку.
Дела: с приезду ½ 12-го) Павловну с Зоей за «Лейкой». Я в «Федерацию», в «Октябрь».
Дунечка больна. (Справим ли еще именины?) Видел Маню Игнатову. Умер Анат. Алек. Александров.
15 Марта. Вернулась зима.
Второй манифест. Все злодейство этой зимы с государственной точки зрения названо «исправлением партлинии»{53}.
Вынос Александрова.
16 Марта. Валит снег.
А. Н. Тихонов (я говорю о нем, потому что он, Базаров — имя им легион) все неразумное в политике презрительно называет «головотяпством». Это слово употребляют вообще и все высшие коммунисты, когда им дают жизненные примеры их неправильной, жестокой политики{54}. Помню, еще Каменев на мое донесение о повседневных преступлениях ответил спокойно, что у них в правительстве все разумно и гуманно. «Кто же виноват?» — спросил я. «Значит, народ такой», — ответил Каменев{55}.
Теперь то же самое, все ужасающие преступления этой зимы относят не к руководителям политики, а к головотяпам. А такие люди, как Тихонов, Базаров, Горький еще отвлеченнее, чем правительство, их руки чисты не только от крови, но даже от большевистских портфелей… Для них, высших бар марксизма, головотяпами являются уже и Сталины… Их вера, опорный пункт — разум и наука. Эти филистеры и не подозревают, что именно они, загородившие свое сердце стенами марксистского «разума» и научной классовой борьбы, являются истинными виновниками «головотяпства».
Они презирают правительство, но сидят около него и другого ничего не желают. Вот Есенин повесился и тем спас многих поэтов: стали бояться их трогать. Предложи этим разумникам вместе сгореть, как в старину за веру горели русские люди. «За что же гореть? — спросят они, — все принципы у нас очень хорошие, желать больше нечего: разве сам по себе коллективизм плох или не нужна стране индустриализация? Защита материнства, детства, бедноты — разве все это плохо? За что гореть?»
Вероятно, так было и в эпоху Никона: исправление богослужебных книг было вполне разумно, но в то же время под предлогом общего лика разумности происходила подмена внутреннего существа. Принципа, за который стоять, как и в наше время, не было — схватились за двуперстие и за это горели. Значит, не в принципе дело, а в том, что веры нет: интеллигенция уже погорела.
<На полях:> Разум хорош, когда он идет в помощь вере, но когда он прикрывает равнодушие…
В редакцию журнала «Октябрь».
Пересмотрев дома вещь, которую я Вам предложил, я убедился, что в «Октябре» ее печатать не стоит: это не октябрьская (небольшая) вещь.
Месяц тому назад я был свидетелем гибели редчайшего, даже единственного в мире музыкального инструмента — Растреллиевской колокольни{56}: сбрасывались один на другой и разбивались величайшие в мире колокола Годуновской эпохи. Целесообразности не было никакой в смысле материальном: 8 тыс. пудов бронзы можно было набрать из обыкновенных колоколов. С точки зрения антирелигиозности поступок не может быть оправдан, потому что колокола на заре человеческой культуры служили не церкви, а общественности. И единственный в мире музыкальный инструмент — Растреллиевская колокольня могла бы служить делу социализма: на ней можно было играть 1-го мая революционные марши, и процессии рабочих под звуки революционных колоколов, единственных в мире, привлекли бы к делу социализма любопытное внимание иностранцев.