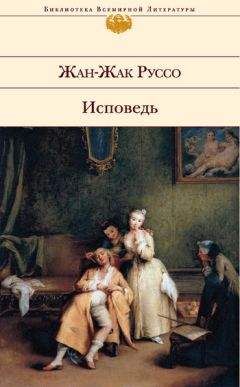Случилось так, что я видел его тогда два раза и… в том числе в опере! Он играл труса и хвастуна Фрелафа в «Аскольдовой могиле». А в «Горе от ума» — Репетилова.
О нем я в 80-х годах написал воспоминания в одном сборнике после многолетнего личного знакомства и участия его в моем «Однодворце».
Его ближайший сверстник и товарищ по театральному училищу и службе на Малом театре, П. Г. Степанов, был создатель роли трактирщика Маломальского в том бесподобном трио, о котором я говорил выше.
В свое время он считался «второй силой», как нынче и официально выражаются, а стоил многих теперешних «первых сюжетов» и даже превосходил их.
Он с самых молодых лет отличался тем, что нынче называют «гримом» и вообще схватывателя типичных черт, в особенности пожилых лиц и стариков. Когда было разрешено давать только третий акт «Горя от ума», ему поручили роль князя Тугоуховского, в которой я его и увидал впервые, до представления «Не в свои сани не садись». Позднее, уже во второй половине 60-х годов, он сам мне рассказывал, как император Николай видел его в этой роли и вызвал потом играть ее в Петербург. Другой его такой же типичной ролью из той же эпохи было лицо старого Фридриха II (в какой-то переводной пьесе), и он вспоминал, что один престарелый московский барин, видавший короля в живых, восхищался тем, как Степанов схватил и физическое сходство, и всю повадку великого «Фрица».
Ту же типичность и рельеф замысла и выполнения выказывал он в гоголевском Яичнице. Эта роль оставалась одною из его «коронных» ролей.
В таких старых актерах было что-то особенно прочное, веское, значительное и жизненное, чего теперь не замечается даже и в самых даровитых исполнителях. И по бытовому репертуару Степанов среди своих сверстников один и подошел по тону и говору. Задолго до создания лица Маломальского он уже знаменит был тем, как он играл загулявшего ямского старосту в водевиле «Ямщики».
С. В. Шуйский к зиме 1852–1853 года встал уже впереди, рядом с Васильевым и Самариным; из водевильного актера очень скоро превратился в тонкого художника с разнообразным и гибким дарованием.
Я его видел тогда в трех ролях: Загорецкого, Хлестакова и Вихорева («Не в свои сани не садись»). Хлестаков выходил у него слишком «умно», как замечал кто-то в «Москвитянине» того времени. Игра была бойкая, приятная, но без той особой ноты в создании наивно-пустейшего хлыща, без которой Хлестаков не будет понятен. И этот оттенок впоследствии (спустя с лишком двадцать лет) гораздо более удавался М. П. Садовскому, который долго оставался нашим лучшим Хлестаковым.
Загорецкий являлся у Шуйского высокохудожественной фигурой, без той несколько водевильной игривости, какую придавал ей П. А. Каратыгин в Петербурге. До сих пор, по прошествии с лишком полвека, движется предо мною эта суховатая фигура в золотых очках и старомодной прическе, с особой походочкой, с гримировкой плутоватого москвича 20-х годов, вплоть до малейших деталей, обдуманных артистом, например того, что у Загорецкого нет собственного лакея, и он отдает свою шинель швейцару и одевается в сторонке.
Роль Вихорева, несложная по авторскому замыслу и тону выполнения, выходила у него с тем чувством меры, которая еще более помогала удивительному ансамблю этой, по времени первой на московской сцене, комедии создателя нашего бытового театра.
Шумского 60-х годов я лично зазнал уже как драматический писатель; но об этом в другом месте.
Трех женщин Малого театра, кроме Е. Васильевой (Она была тогда еще девица Лаврова и выступала в Софье в «Горе от ума»), помню я из этой поездки: старуху Сабурову, Кавалерову и только недавно умершую П. И. Орлову.
С Сабуровой (мать петербургской актрисы) ушли особенная своеобразность, прекрасная московская дикция, комизм без шаржа и значительность всего пошиба игры. Одинаково хороша была она и в московской старой барыне (из «Горя от ума»), и в жене трактирщика Маломальского.
Кавалерова и тогда уже считалась старухой не на одной сцене, а и в жизни; по виду и тону в своих бытовых ролях свах и тому подобного люда напоминала наших дворовых и мещанок, какие хаживали к нашей дворне. Тон у ней был удивительно правдивый и типичный. Так теперь уже разучаются играть комические лица. Пропала наивность, непосредственность; гораздо больше подделки и условности, которые мешают художественной цельности лица.
П. И. Орлова держала тогда — уже на склоне карьеры — амплуа светских дам, отличалась представительностью и приятной дикцией. Через два года она уже попала в сестры милосердия во время Севастопольской кампании.
Итак, театр всего больше захватил меня, и вообще Москва показала себя «столицей» всего больше в театральных залах. Ничего подобного провинция не могла дать. В особенности зала Большого театра и такие зрелища, как балеты, тогда увлекавшие москвичей, с такими балеринами, как Санковская и Ирка-Матьяс. Совсем столицей обдал меня и последний спектакль тогдашней казенной французской труппы, который обыкновенно давался в среду на Масленой, после чего русская труппа овладевала уже театром до понедельника Великого поста и утром и вечером.
Меня взяла в ложу бельэтажа тетка со стороны отца, и я изображал из себя молодого человека во фраке. Тут было все тогдашнее светское общество. В литерной ложе дочь генерал-губернатора, графиня Нессельроде, тогдашняя львица, окруженная всегда мужчинами, держала себя совершенно по-домашнему, так же как и ее кавалеры.
Труппа была весьма и весьма средняя, хуже даже теперешней труппы Михайловского театра. Но юный фрачник-гимназист седьмого класса видел перед собою подлинную французскую жизнь, слышал совсем не такую речь, как в наших гостиных, когда в них говорили по-французски. Давали бульварную мелодраму «Кучер Жан», которая позднее долго не сходила со сцены Малого театра, с Самариным в заглавной роли, под именем «Извозчик».
И не для меня одного театральная Масленица сезона 1852–1853 года была прощальной. На первой же неделе поста сгорел Большой театр, когда мы были на обратном пути в Нижний.
В Малом театре на представлении, сколько помню, «Женитьбы» совершенно неожиданно дядя заметил из кресел амфитеатра моего отца. С ним мы не видались больше четырех лет. Он ездил также к выпуску сестры из института, и мы с дядей ждали его в Москву вместе с нею и теткой и ничего не знали, что они уже третий день в Москве, в гостинице Шевалдышева, куда он меня и взял по приезде наших дам из Петербурга.
Мои московские впечатления стали с этого дня еще разнообразнее. Он возил меня к своим родным и знакомым, и я вкусил немного тогдашней московской жизни в домах, где принимали.