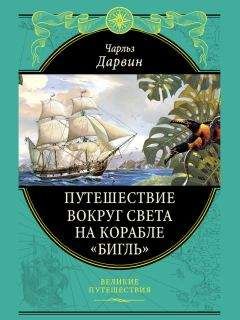Я навсегда запомнила, как она спустя годы ступила на родную землю. Она опустилась на колени среди лужайки (а может, то было в лесу) и начала дышать полной грудью, втягивая носом запахи и ароматы.
«Что такое?» — воскликнули мы, боясь хоть что-нибудь упустить, и она весело нам ответила: — «Я просто все это нюхаю. Знаете ли вы, что самое прекрасное в нашей Америке — это ее запах, это прекрасный, прекрасный запах!»
Ей нравилось взять горсть еловых иголок, размять их и поднести к ноздрям, и, закрыв от блаженства глаза, она пьянела от их аромата. Именно эти запахи она любила — чистые, острые или же тонкие, как благоухание чайной розы. Многие восточные цветы она недолюбливала за их тяжелый, сладковатый мускусный запах.
В музыке Керри разбиралась прекрасно, но всегда ценила в первую очередь чувство и эмоциональность. В годы, когда я была нетерпимым подростком, меня раздражало, что она неспособна была слушать великую музыку без слез, но то, конечно, были не слезы боли, а слезы, исторгнутые из глубин сердца, чересчур чувствительного, чтобы оставаться безразличным к красоте музыки. С подростковой самонадеянностью я как-то спросила ее: «Если ты не можешь удержаться от слез, зачем тогда ее слушать?»
Она глянула на меня своим глубоким твердым взглядом и, чуть помедлив, ответила: «Тебе этого пока не понять. Да и откуда? Ты еще не прожила жизнь. В один прекрасный день ты научишься слушать музыку и услышишь в ней не только мастерство исполнения и мелодию, но и самый смысл жизни, бесконечно грустной и невыносимо прекрасной. Тогда ты поймешь».
В ее любви к краскам было занятное противоречие. Она всегда предпочитала тонкие, не слишком яркие тона. Я немало размышляла над этим, ибо в ее природе были страстность и порывистость, которые, казалось мне, должны были притягивать ее к более грубым оттенкам, и у меня есть теория, не знаю, правильная или нет, согласно которой, отдавая предпочтение тем или иным цветам, люди невольно приоткрывают что-то в своей действительной сути. Она терпеть не могла красные и желтые краски старого императорского Китая. Я думаю, в них было буйство, которое пугало ее, — буйство плотских радостей. Я думаю, это пугало ее потому, что она ощущала, какая горячая у нее кровь, и боялась отдаться своим страстям. Вот она и отдала предпочтение бледным, неброским розовато-желтым тонам чайной розы, что росла у ступенек нашей беседки, — американской чайной розы, и еще она любила теплую старомодную изысканность оранжево-розовой гаммы. Позднее, когда волосы у нее поседели и она стала одеваться в серебристо-серое, в ее одежде всегда присутствовал какой-нибудь из этих цветов. Я думаю, она чувствовала в себе что-то языческое, страстное, сильное, сугубо плотское, а пуританское воспитание, полученное в былые времена, не позволяло ей пойти на поводу у своего естества.
* * *
Если бы она чудом восстала из своей одинокой могилы, ей, наверное, не понравилось бы то, что я сейчас написала. Она посмотрела бы на меня с укором и сказала: «Разве я не боролась всю жизнь против того, о чем ты говоришь теперь, когда я мертва?» И я бы ответила: «Да, правда, мы видели, как ты боролась, но неужели ты не знаешь, что мы любили тебя за то самое, что ты в себе ненавидела?»
Ибо всякий раз, когда мы говорим о ней или о ней думаем, перед нами возникают как бы две личности, далеко отстоящие друг от друга. Одна — теплая, веселая, с тонким восприятием, обожающая шутку, прирожденная актриса с превосходной мимикой, заставлявшая всех нас, когда она была в веселом настроении, смеяться над тем, как она копировала чей-то голос, походку, манеры, собиравшая нас всех в хор, чтобы спеть веселую песню, оставлявшая вдруг все дела по дому, чтобы выйти в солнечный сад или отправиться на пикник в горы. Другая — пуританка, существо одновременно мистическое и практичное, тщетно пытающееся узреть Господа, истязающее себя молитвами, требующее от себя большей сосредоточенности, большей набожности, но не способное когда-либо целиком осуществить свои планы, и эта неспособность безоглядно уйти в религию делала ее нетерпимой и строгой и мешала поддаться страстной и эмоциональной стороне своей природы, которая, как ее научили с детства, была греховна и уводила от Бога. Она вела постоянную войну сама с собой.
Когда я размышляю о годах ее душевного становления, я начинаю понимать, что этот внутренний конфликт был заложен в самой ее природе. От Германуса она унаследовала неизбывную любовь к красоте. От своих голландских дедушки и бабушки она взяла практичность и деловитость, не позволявшие ей бездельничать; что же касается способности все отдать за правое дело, то она была у нее в крови. Она выросла на рассказах о том, как ее семья оставила все и переселилась в новую страну ради дела Христова. Она была скроена из того же материала, что и другие паломники. Но в эту невероятную смесь внесла свою долю и веселая, практичная, не слишком на деле религиозная маленькая француженка, которая в первую очередь страстно любила Германуса и своих детей, а потом уже, ради них, доброго Боженьку.
И все же только потом, когда я лучше узнала собственную страну и ее народ, я сумела лучше понять и Керри. Сама эта противоречивость, это богатство оттенков, которыми наделила ее смешанная кровь, этот дух первооткрывателей и богатая впечатлениями собственная жизнь делали ее живым воплощением Америки.
Несмотря на то что Керри жила безбедно, несмотря на звучавшую в их большом доме музыку, занятия в школе и деревенские праздники, она не всегда была довольна тем, как ей живется. Может быть, в те годы никто не был вполне счастлив, ибо всегда помнил, как важно печься о спасении души.
В самые веселые моменты своей жизни она не переставала помнить о душе. Часто в самый разгар веселья, когда друзья слушали ее шутки, дразнились и смеялись, она вдруг замирала, словно кто-то положил ей на сердце холодную руку, и в ее мозгу лихорадочно вспыхивало: «А что же теперь будет с моей бессмертной душой?» Иногда, делая работу по дому и бросая взгляд на сад через отворенную дверь, она начинала думать, что сами райские кущи не могли быть прекраснее, и тут же ее ум вдруг пронзал страх: «Нет, мне не суждено спасение. Увижу ли я небеса?»
Трудно было не думать о подобных вещах. Длинные церковные службы по воскресеньям, домашние молитвы два раза в день, проникающие в душу вопросы священника, желание отца с матерью, чтобы все их дети были «спасены», и неустанная забота церкви — все это мешало ей быть совершенно счастливой.
Но в поисках Бога ею никогда не руководил страх перед преисподней. Я ни разу не замечала, чтобы она чего-нибудь боялась, и не могу ни на минуту представить себе, чтобы кому-либо удалось изобразить для нее ад настолько отпугивающим, чтобы вынудить ее устрашиться его против собственной воли. Нет, она просто от души хотела быть хорошей. Она часто говорила кому-нибудь из нас: «Замечательно быть хорошей, детка, — просто хорошей, потому что ничего лучшего нет на свете». Она искала Бога потому, что, как ей объяснили, только так и можно стать хорошей. Доброта до тех пор, пока человек не нагнет Бога, сказано в Библии, всего лишь «грязные лохмотья».