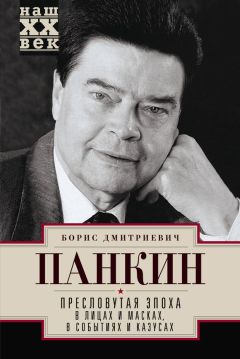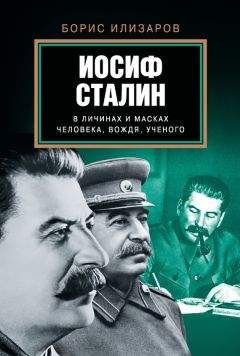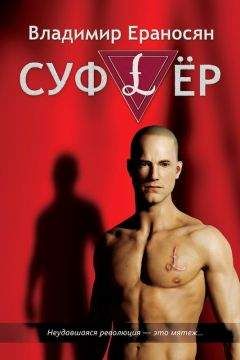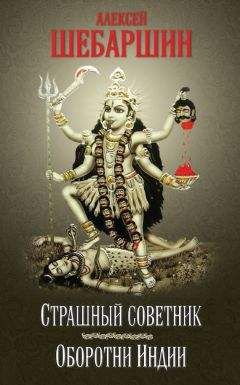Пиня переводил поочередно с одной на другую, с другой на третью свои огромные карие с длинными ресницами глаза и, кажется, готов был общупать или ущипнуть сам себя – о нем ли говорят, не спит ли он? Я, опережая возможных адвокатов да и прокуроров, вступился за себя сам. Просто никому не мог уступить такого удовольствия. Говорят, я пропадаю в университетской многотиражке. Но разве на семинарах по «теории и практике большевистской печати» наш декан Тимофей Иванович Антропов не говорит, что прежде всего для газетчика – именно практика? Теория приложится. Впрочем, у меня и по теории – всегда пятерка. И разве мы не сочинили частушку об одном из таких «теоретиков»? Я не мог отказать себе в некотором хамстве:
Иваньков у нас в почете
И на курсе, и в бюро;
Но в журнале и в газете
Он не смыслит ничего…
И никакой будущий тесть мой не шишка. Завканцелярии в министерстве. Да если бы и шишка… Я же не на нем женюсь… И квартира… Конечно, если сравнить с той шестнадцатиметровой комнатой в новоостанкинском бараке, где я живу с родителями и младшим братом, – это дворец. Но этот дворец – две смежные комнаты в квартире с соседями. Да и какое это имеет значение. Мы ведь все равно с ее родителями жить не собираемся. Подыскиваем комнату. А чтобы платить за нее, я начал подрабатывать. Вопрос:
– Где подрабатываешь-то?
– В обществе по распространению знаний…
– Лекции, что ли, читаешь?
– Нет, редактирую тексты.
– Ну и как?
– Что – как?
Я скорчил гримасу, воодушевляющую зал.
– А как ты туда попал?
– Иван Александрович (преподаватель по истории все той же большевистской печати) меня порекомендовал… На полставки. Полный оклад 1800. Мне платят половину.
– А «Комсомолка»?
– Пригласили на фикс после нашей с Понизовским корреспонденции о новой станции московского метро «Краснопресненская». Кто же откажется, если намерен стать профессиональным журналистом. Но и бросить из-за этого «Московский университет» было бы просто подлостью… Вот и приходится поспевать.
Собравшиеся, видно не ведавшие о зловредных замыслах организаторов этой кампании травли, с недоумением смотрят друг на друга. Такого вроде бы не осуждать, а в пример ставить надо.
– Почему не явился, когда тебя хотели избрать комсоргом?
– Родительский совет шел дома у нее. Да неожиданно затянулся: мои были против. Говорили, что против. Мне несколько раз звонили с курса, я им объяснил… Не мог же я всех там бросить…
Зал снова отозвался сдержанным шумком, в котором явно улавливалось сочувствие пополам с улыбкой.
– Ну ладно, – вдруг как-то стремительно, словно из-под воды вынырнул, поднялся Лешка Масягин. Мягкие светлые волосы. Правильный овал лица. Серые с теплой радиацией глаза.
Если Понизовский проходил на курсе как эталон внешней красоты, Масягин был первым в области внутренней, духовной. Что он скажет, то правильно. Ему доверяли и в коридоре, и в деканате. И ему же старшие, партийные товарищи первому, собственно единственному из нас, еще на третьем курсе предложили заполнить анкету. Другими словами, вступить в партию. С тех пор он уже успел стать парторгом курса.
– По-моему, все ясно, – сказал Масягин, нимало не смущаясь тем, что не он председательствовал на собрании. – Как насчет выговора, будем объявлять?
Зал охнул от неожиданности.
– Кому? За что? – выделился из общего шума девичий голос.
– Как кому? Как за что? – удивился Масягин. – За грубые ошибки, допущенные в обсуждаемых статьях. За предвзятое отношение к своим товарищам. За время, которое мы тут потратили на эту…
Он затруднился подобрать походящее слово. Тут уж пришлось нам с Пиней вставать и выгораживать подписантов.
– Ну, какие выговоры? Они же не со зла…
Тем и закончилось это странное собрание, первая в моей жизни проработка, которая не только не лишила меня моей телячьей наивности, а, наоборот, укрепила в ней.
Много-много лет спустя, уже после того, как возникло и прогремело так называемое «дело Синявского и Даниэля», после того, как их осудили на разные сроки, и они отсидели свое, и Синявский эмигрировал, я прочитал в его воспоминаниях, как в том же университете, на том же филфаке и чуть ли не в той же «Комсомолии» примерно в ту же пору появилась статья о нем под заголовком «На кого работает Андрей Синявский».
Я встрепенулся – тот же почерк: «Правда о…», «Открытое письмо…», «На кого работает…».
Повод для разбирательства был, кажется, такой же пустяковый, как и в нашем случае… Но кончилось уже и в тот раз для Андрея Донатовича тяжелее…
Я и до сих пор не могу вспомнить, случилось все это с нами до или после того, как в печати было заявлено, что «дело врачей» липовое, другими словами – после смерти Сталина или накануне ее. И соответственно – возникло ли и лопнуло, как воздушный шарик, наше с Володькой дело, скорее дельце, спонтанно, как непроизвольный выброс бурных комсомольских будней, в которые все мы самозабвенно погружались, или это была многоходовая акция, к которой потеряли интерес вместе с кончиной и разоблачением аферы с врачами-евреями.
Спросить об этом наших обличителей ни тогда, ни после как-то не пришло в голову. Хотя один из них, ныне доктор филологии, член-корреспондент от литературы, совсем вскоре отличился еще раз. Шло очередное комсомольское собрание, и на нем то ли задуманно, то ли стихийно возникло так называемое дело Нонны Лубянской, которую обвиняли примерно в тех же грехах, что и Понизовского. Завязалась, однако, вполне натуральная полемика, плюс нашему времени, в который сейчас мало кто соглашается верить, и, как в случае с Володькой, наветы отпадали один за другим. И в тот момент, когда дело совсем, казалось бы, развеялось, над рядами голов (все происходило в расположенной амфитеатром Комаудитории), встал наш будущий литературовед-академик.
– Нонна, – сказал он, терпеливо дождавшись тишины и окинув однокашников многообещающим взором, – Нонна сделала, – снова пауза… – аборт.
Слово «аборт» он произнес с ударением на «а». И зал, который, ожидалось, взорвется возмущением, грохнул хохотом. Нонну отпустили с миром, а за ним так и утвердилась кличка – Аборт, с ударением, разумеется, на первом звуке.
Да, пришлось и мне услышать эту фразу обращенной к себе. От человека, которого тогда я почти не знал, но который с годами, вплоть до его смерти от сердечного приступа, становился мне все ближе и ближе.
Речь идет о тогдашнем главном редакторе «Комсомольской правды», куда Аджубей «устроил» меня, как это формулировалось в «Открытом письме», за полгода до получения мною университетского диплома со значком.