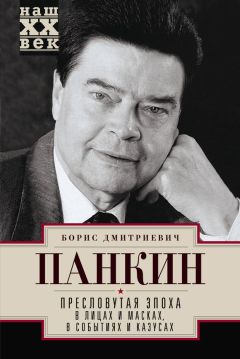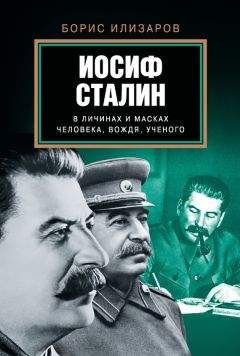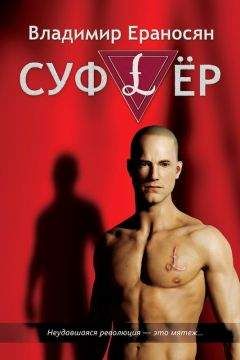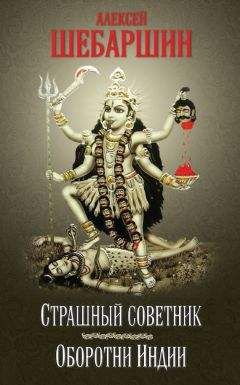Я спорить не стал. Я уже понял, в чью пользу говорит разница между тем, саратовским редактором, и этим, в «Комсомолке».
Илюхой, которого назвал по телефону Фалатов, был Илья Шатуновский, в то время фельетонист «Комсомолки», унаследовавший должность, а там и славу перешедшего в «Правду» Семена Нариньяни, который эту перемену в своей жизни объяснил здоровьем, вернее нездоровьем:
– Какое здоровье? Половину мочи врачам отдаю.
Это Шатуновский с Фалатовым да еще Володя Чачин, Морячок… как его звали на этаже, инициировали петицию Горюнову и тем надолго предопределили мою судьбу.
Догадывались ли они тогда, что им еще придется послужить под моим началом? И если бы догадывались, не отказались ли от своей затеи?
Прозвище у Фалатова было Самородок. Молва утверждала, что нашел его Шелепин, в ту пору первый секретарь ЦК комсомола, в недалеком будущем – член президиума и политбюро ЦК КПСС, последовательно – секретарь ЦК, заместитель председателя правительства, председатель КПК, то есть Комитета партийного контроля, председатель всесоюзных профсоюзов, кандидат в Бонапарты, вошедший в историю как Железный Шурик. Вот он-то, Железный Шурик, и был крестным отцом нашего Юры. Он наткнулся на него в одном из колхозов Владимирской области, где двадцатилетний Фалатов, «освобожденный» секретарь колхозного комсомола, поделился с ним своей мечтой стать писателем и показал несколько опусов, опубликованных в областной молодежке.
Недолго думая, Шурик посадил его в машину и привез в Москву, прямо на улицу «Правды», к Горюнову.
Тогда в моде были такие жесты. Как в одну, так и в другую сторону. То же вольное или неосознанное подражание эффектным жестам Сталина. Несколькими годами позже, уже после смерти вождя, Шелепин так же привез Горюнову заместителя – Юру Воронова из Ленинграда, где тот работал редактором «Смены». В Юре примечательным было, во-первых, то, что он был блокадником – подростком прошел всю блокаду. Похоронил родных. Получил медаль «За оборону Ленинграда», о которой позднее сказал в стихах: «Нам в сорок третьем выдали медали, и только в сорок пятом паспорта». Во-вторых, он оказался самым молодым замом в «Комсомолке» за многие годы. За что и подвергся поначалу остракизму со стороны ветеранов. То, что Юра, в-третьих, еще и поэт, выяснилось, только когда он уходил из «Комсомолки» в «Правду». Но это уже особая статья.
Фалатов вошел или, если хотите, взошел на шестой, тогда еще неведомый мне этаж, как домой. Талант его был не в том, что он писал милые зарисовки, которые он назвал, окая по-владимирски, «отчерками» – обязательно с диалогами, с прямой речью, о хороших колхозных ребятах и девчатах, – а в его способности сходиться с человеком с полуслова.
Кто бы ни заглядывал в нашу комнату отдела сельской молодежи, оказывался лучшим другом Фалатова.
Алексей Колосов, очеркист «Правды», чье имя мы, салажата, произносили со священным трепетом, приносил ему с пятого этажа сырые правдинские полосы, сверить что-то из деревенского обихода. Помню, как он читал ему, а заодно и мне, вложенные в уста одного из героев вирши:
Клавикордой ударяя,
Распрекрасную прельщу;
Маргаритка молодая, ах,
Со всею страстию люблю.
Исполнитель этой песни представлялся мне похожим на самого Алексея Ивановича: коротышка в замшелой непонятного цвета куртке, в мятых бесформенных штанах, похожий на доброго лешего.
Совсем не то, что можно было бы представить, читая его очерки в «Правде». Габаритного Фатьянова, владимирца, земляка Фалатова, автора моей любимой «Хороши весной в саду цветочки», Юра в третьем лице звал Фатьянычем и никогда не упускал случая стрельнуть у него трешку: на той неделе зарплата…
Да бог ты мой, с кем только не познакомился я в этой комнате благодаря Юре за те месяцы, пока кантовался в сельском отделе. Да и позже. «Папой» немедленно оказался у него Тендряков, когда встретили его в толпе гостей, приваливших по указанию Хрущева в село Мальцево Курганской области, к Терентию Семеновичу Мальцеву.
Там же был тогда и Овечкин, который оказался единственным, к кому Юра обратился по имени и отчеству:
– Валентин Васильевич…
– Во-первых, не Васильевич, – немедленно отбрил его Овечкин.
– А как же? – разинул рот от неожиданности Юра.
– Знать надо… как Овечкина зовут, – завершил беседу Валентин Петрович.
Мансарду, в которой Юра жил во время подаренной ему начальством командировки в Ханой, Юра называл Массандрой, а ближайший к редакции Савеловский вокзал – «Савелием». Строго говоря, это относилось даже не к вокзалу, а к его ресторану, где обитатели шестого этажа ритуально встречались, чтобы дать отвальную или обмыть гонорар.
Фалатов с удовольствием нырял туда и без повода. Трудно было представить себе наш этаж без движущегося по нему вразвалочку Юры, сбивающего стаю для похода к «Савелию». Как-то застал его за этим занятием Аджубей, ставший к тому времени уже главным. В отличие от Горюнова, который предпочитал подняться в лифте, что был ближе к его кабинету, Алексей Иванович обожал пробежаться, с неизбежными остановками на пути, по длиннющему коридору: себя показать и на людей посмотреть.
– Юра, – спросил Аджубей, наткнувшись при одной из таких пробежек на группку спецкоров, деловито подсчитывавших перед экспедицией к «Савелию» свои скудные ресурсы, – не думаешь ли ты, Юра, что в твоем возрасте и с твоим опытом и мастерством можно было бы уже подумать и о более серьезной, взрослой газете?
– Да ить, папа, пока и отсюда не гонють, – невозмутимо ответствовал Фалатов, продолжая ворошить указательным пальцем правой руки лежавшие на ладони левой мятые руб левки.
И Аджубею, который еще пару лет назад сам с удовольствием принимал участие в экспедициях к «Савелию», оставалось только незаметно слинять.
Он был общеизвестным сердцеедом, Юра Фалатов. Хвастался, что перед ним ни одна не устоит, и однажды поделился со мной глубокомысленным заключением, что, мол, эти-то самые – он, разумеется, назвал вещи своими именами – «у них у всех одинакие». Так было до тех пор, пока не пришла к Юре великая любовь, которая перевернула всю его жизнь. Обреталась эта до поры до времени не узнанная им любовь на седьмом этаже комбината «Правда», звалась Ниной, или, на Юрином языке, Нинкой, хорошо, что хоть не «папой», и работала завзалом правдинской столовой. Время она проводила в силу этого своего высокого положения в основном за кулисами, откуда доносились звоны посуды и запахи борща или соуса к котлетам, но иногда, при достаточном скоплении особ мужского пола, появлялась среди столиков с подносом или чайником в руках, и тогда можно было полюбоваться ее статной фигурой, очертаниями литых бедер под спускавшейся до половины колен юбкой и светло-шоколадной косой, выстроенной на голове в форме короны. Прямо как полвека спустя у Юлии Тимошенко. Ни взгляды наши, ни реплики нимало ее не смущали. Она любого могла отбрить и делала это с видимым удовольствием: