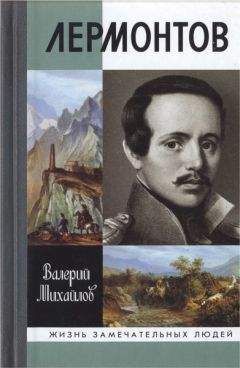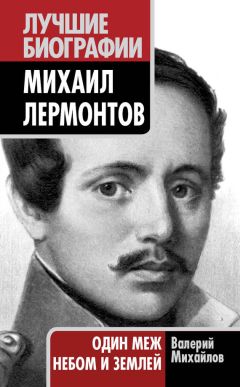Остатки траншей, что рыли мальчишки для своих сражений, были заметны в Тарханах до нынешних времён…
В незавершённой повести, названной издателями по первым её словам «Я хочу рассказать вам…», Лермонтов пишет о мальчике Саше Арбенине — и по всей видимости, это воспоминание о своём собственном детстве:
«Зимой горничные девушки приходили шить и вязать в детскую, во-первых, потому что няне Саши было поручено женское хозяйство, а во-вторых, чтоб потешать маленького барчонка. Саше было с ними очень весело. Они его ласкали и целовали наперерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами дикой храбрости, и картинами мрачными, и понятиями противуобщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать. Шести лет уже он заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уж волновало его душу, когда полный месяц светил в окно на его детскую кроватку. Ему хотелось, чтоб кто-нибудь его приласкал, поцеловал, приголубил, но у старой няньки руки были такие жёсткие!..»
Жилось преизбалованному ребёнку в Тарханах весьма вольготно — бабушка всячески скрашивала его сиротство и разлуку с отцом. Неугомонный барчонок, во главе своих ряженых воинов-сверстников, разыгрывал потешные сражения — война, пусть и понарошку, уже тогда горячила ему кровь, скакал на своей лошадке, устраивал кулачные бои между сельскими мальчишками — и победителей, нередко с разбитыми носами, щедро оделял пряниками. Бывало, в праздничные дни на сельской площади подросший, но ещё юный «Михаил Юрьевич» выставлял бочку с водкой и тарханцы ходили стенка на стенку, дрались на кулачки, — и зрители подмечали, что «у Михаила Юрьевича рубашка тряслась»: так сильно ему хотелось ввязаться в драку, «но дворянское звание и правила приличий только от этого его удерживали; победители пили водку из этой бочки; побеждённые же расходились по домам, и Михаил Юрьевич при этом всегда от души хохотал» (П. К. Шугаев). Но вот Акиму Шан-Гирею запомнилось совсем другое: как однажды расплакался его, старший годами, брат, «когда Василий-садовник выбрался из свалки с губой, рассечённой до крови».
Так или иначе, Елизавета Алексеевна, без сомнения, готовила Мишеньку к службе «Его Императорскому Величеству», о чём было обещано ею в собственном завещании, в те же годы и написанном.
Но вот, между прочим, другая сторона души «пресвоевольного» ребёнка (по простодушному рассказу крестьянки из Тархан М. М. Коноваловой, записанному П. А. Вырыпаевым):
«Вышел однажды Мишенька на балкон, а в селе-то избы по-чёрному топились. Он и спрашивает: „Почему дым через крыши идёт? Я видал, как дым через трубы идёт, а тут через крыши“. Рассказали ему. Тут он пристал к бабушке: „У тебя кирпишна (кирпичный завод) своя, дай мужикам кирпичей на печки“. Ну, бабка его любила. Мужикам кирпичей дали, сложили печки с трубами. До крестьян-то Мишенька добрый был».
Кстати говоря, вряд ли это было минутной прихотью. Пётр Шугаев пишет: «Заветная мечта Михаила Юрьевича, когда он уже был взрослым, это построить всем крестьянам каменные избы, а в особенности в деревне Михайловской, что он предполагал непременно осуществить тотчас по выходе в отставку из военной службы. Внезапная и преждевременная смерть помешала осуществлению проекта». — Кроме всего прочего, это ещё и свидетельство, насколько сильны и неслучайны были детские переживания и впечатления у Лермонтова.
А теперь вернусь к образу мальчика Саши Арбенина из неоконченной повести:
«…Между тем природная всем склонность к разрушению развивалась в нём необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный камень сбивал с ног бедную курицу. Бог знает какое направление принял бы его характер, если б не пришла на помощь корь, болезнь опасная в его возрасте. Его спасли от смерти, но тяжёлый недуг оставил его в совершенном расслаблении: он не мог ходить, не мог приподнять ложки. Целые три года оставался он в самом жалком положении; и если б он не получил от природы железного телосложения, то, верно бы, отправился на тот свет. Болезнь эта имела важные следствия и странное влияние на ум и характер Саши: он выучился думать. Лишённый возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой».
Заметим: речь не только о простом и обычном охотничьем азарте, живущем в каждом мальчишке (ну, наверное, кроме отдельных будущих философов), но и о природной всем склонности к разрушению. Лермонтов честно и трезво обозначает это общее для всех мужчин качество, — а то, что у Саши Арбенина оно развивалось необыкновенно, так у таких, как Саша, мальчиков всё необыкновенно.
Однако именно за эту черту характера, что была у Саши Арбенина и, разумеется, у самого Миши Лермонтова, жадно уцепился философ Владимир Соловьёв, дабы подвести базис под свои обвинения поэту:
«…уже с детства, рядом с самыми симпатичными проявлениями души чувствительной и нежной, обнаруживались в нём резкие черты злобы, прямо демонической. Один из панегиристов Лермонтова, более всех, кажется, им занимавшийся, сообщает, что „склонность к разрушению развивалась в нём необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный камень сбивал с ног несчастную курицу“. (Как видим, Соловьёв то ли по забывчивости, то ли нарочно самого Лермонтова, автора повести, рисующего характер Саши Арбенина, производит в „панегиристы“, — что из того, если даже Сашу он писал с себя, разве от этого меньше его нелицеприятная правдивость, да и где тут, помилуйте, „демоническая злоба“? — В. М.) Было бы, конечно, нелепо ставить всё это в вину балованному мальчику. Я бы и не упомянул даже об этой черте, если бы мы не знали из собственного интимного письма поэта, что взрослый Лермонтов совершенно так же вёл себя относительно человеческого существования, особенно женского, как Лермонтов-ребёнок — относительно цветов, мух и куриц. И тут опять значительно не то, что Лермонтов разрушал спокойствие и честь светских барынь, — это может происходить и случайно, нечаянно, — а то, что он находил особенное удовольствие и радость в этом совершенно негодном деле, так же как ребёнком он с истинным удовольствием давил мух и радовался зашибленной камнем курице.
Кто из больших и малых не делает волей и неволей всякого зла и цветам, и мухам, и курицам, и людям? Но все, я думаю, согласятся, что услаждаться деланием зла есть уже черта нечеловеческая. Это демоническое сладострастие не оставляло Лермонтова до горького конца; ведь и последняя трагедия произошла от того, что удовольствие Лермонтова терзать слабые создания встретило, вместо барышни, бравого майора Мартынова».