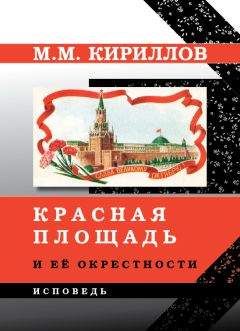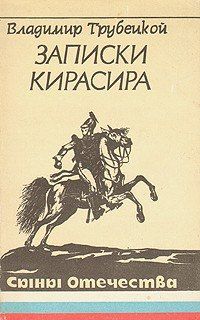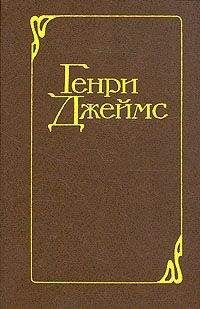Да боже мой, разве он бывал когда-нибудь у настоящих людей? в настоящей семье? доме? И разве удивительно, что все показалось ему там милым: и пышки, и абажуры, и шпильки, секрета «штрафа» за потерю которых он так и не узнал… А главное — этот тон обращения жены с мужем, их обоих к сыну, к одному и другому гостю. Да что говорить, ему даже воздух там понравился! Вот как… А особый он, верно, оттого, что в простых глиняных кувшинах — ветки рябины и осенних листьев. И стены деревянные, нештукатуреные, неоклеенные. Дышат. И ничего лишнего. Нет, до чего у них тепло и до чего они сами хорошие люди!..
Но вот даст завтра Петр Филиппович за стихи по первое число, что он тогда запоет? Стоп, какое же «завтра»? Завтра — два урока. И вообще, хоть зовут, нельзя же так кидаться!
В Удельной он был послезавтра.
Теперь они сразу занялись стихами. «Автору очень полезно послушать собственные стихи вслух», — сказал Петр Филиппович, усадив гостя возле бюро. И прочел одно за другим несколько стихотворений. Это было действительно совершенно необычайно. Стихи будто даже выиграли. Автор не заметил в них недостатков. Похвалил его и Петр Филиппович, но все же указал на несколько неблагозвучных слов. Тут же предложил варианты. Придворову стало стыдно, что ему все так понравилось: обрадовался — похвалили! Он оценил великодушие и деликатность критика, который указал «всего только на несколько слов…». Как будто поэзия не состоит из слов!
В общем Мельшин считал, что стихи достаточно хороши. «Можно печатать. И названия прекрасны. Но… эпиграф! Что вы делаете? Перечисление городов, где происходят казни. И все это в черной траурной рамке. Это одно чего стоит! Да представляете ли вы себе (Нет! Вы, конечно, этого не представляете!), что будет с цензором? А дальше: сынок ваш не может сосчитать, в каком городе сколько повесили народу. Ну, это вовсе не для нашего «конституционного» времени. Дорогой мой, вы, наверное, совсем не чувствуете, что мы живем под дамокловым мечом. Что делать? Надо дожидаться пришествия нового пятого года…»
Мельшин перешел к другому стихотворению. И снова то же. «Плетью обуха не перешибешь, — печально говорил Петр Филиппович, и его нервная улыбка то и дело дергала верхнюю губу, отчего печальный тон становился уже трагичным. Таково же было и вырвавшееся у него признание: — Ах, как хочется другой раз бросить это все, бежать от этого кошмара куда глаза глядят!..»
— А журнал губить нельзя, — уже спокойнее объяснял он, взяв еще одно стихотворение своего гостя. — Ну, посмотрите, что вы пишете: «Спасите! В этот час в моей родной стране кого-то где-то злобно душат!» Нет, нет! На это и надеяться нечего! Даже если бы и пропустил цензор — что невероятно! — после нам не пришлось бы ожидать ничего хорошего. Вы, наверное, слышали, что у нас недавно опять были большие неприятности? (Петр Филиппович говорил с ним и впрямь, как с настоящим автором. Откуда он мог слышать?) Дело получилось почти такого масштаба, как в тот раз — десять лет назад. Тогда из-за статьи Анненского о Финляндии был предоставлен «выбор»: или Владимир Галактионович откажется от утверждений Анненского, или закроют журнал. Вы же понимаете, что Короленко не будет отказываться от того, что считает не только истинным, но еще и может доказать это, опираясь на законы. Он их знает.
Тут Мельшин сделал знак рукой, означавший: «Что истинная правота? Что законы в стране беззакония? Ничто!»
— В случае закрытия журнала, — продолжал Мельшин, — расплата с огромными долгами. А ведь мы все неимущие. Если, допустим, даже описать то, что мы имеем, — он показал на стены, — и то ничего не даст. Мне-то легче… А у Владимира Галактионовича и работы и ответственности больше. Да, кстати, семья тоже больше. Я не могу его подводить.
— Я и сам вижу, что вы небогаты. Но… Петр Филиппович, нуждаетесь, а построили дом Рослонасу! — Сказав, он спохватился, что узнал это от Димы. Но Петр Филиппович не стал ничего выяснять, а просто ответил:
— Вы бы видели, как они жили!
— Плохую жизнь я видел.
— Вы видели? Вы? Да я в каторге такого не видал, понимаете? У нас по крайности были нары, какое-то «свое» место на них. И спали мы все-таки не по очереди. А у него в железнодорожной сторожке двенадцать человек семья! Не то что лечь — они сесть не могли разом!
— Всем так не поможешь.
— Разумеется. Но скажите: если бы на ваших глазах человеку грозила катастрофа. Ну, скажем, он мог бы попасть под поезд. Неужели вы не кинулись бы на помощь лишь потому, что не можете помочь всем другим?
Трудно было что-нибудь возразить на это. Но Петр Филиппович заметил тень несогласия и продолжал горячо убеждать в своем. Заговорили о социальном зле… Уже перед отъездом гостя хозяин снова спохватился, и они вернулись к стихам.
— Давайте попробуем вот что, — сказал Петр Филиппович, несколько нервно перебирая листки. — Эх, была не была! Постараемся все-таки напечатать… Где они? Ах, вот: «С тревогой жуткою привык встречать я каждый день…» И… может, «Под Новый год»? Да, эти можно. Ну, а ваше «Письмо из деревни» очень хорошо. У нас так не пишут. Не умеют. Но о том, чтобы напечатать, пока нечего и думать. Жаль… Самобытно! И язык подлинно народный.
В этот вечер они все порешили со стихами, но осталась недоговоренной другая тема. Он снова приехал «послезавтра».
Стихотворение же «Сынок», которое Петр Филиппович порекомендовал уничтожить («Это просто бомба!» — сказал он), Придворов помешкал сжечь или изорвать. Но, не уничтожив сразу, задумался и решил сделать еще попытку. Был в Петербурге один из так называемых «последовательных социал-демократов», что занимался издательской деятельностью. В дни революции пятого года руководил смелым издательством «Вперед». Дело, разумеется, было прихлопнуто. Но говорили, будто сейчас этот человек взялся за какой-то сборник. Его фамилия была Бонч-Бруевич. Придворов даже не был толком знаком с ним, но… чем черт не шутит? И он отважился написать Бонч-Бруевичу:
«Глубокочтимый Владимир Дмитриевич!
Позволяю себе — отдать на суд Ваш стихотворение, с которым не знаю, что делать? Почти уверен, что ни одна редакция не решится по нынешним временам принять его. Правда, я урезывал и смягчал, но все ж…
Не знаю, — может, мои страхи преувеличены? И, может, Вы, глубокоуважаемый Владимир Дмитриевич, найдете моему стихотворению местечко в новом издании Вашего сборника? Или дадите совет… не писать больше таких вещей?!
Ваш покорный слуга Е. Придворов».
Ответ пришел на другой же день: письмо ласковое, ободряющее, с рекомендациями продолжать писать, но… опять-таки до поры стихи публиковать было нельзя. Значит, Петр Филиппович прав.