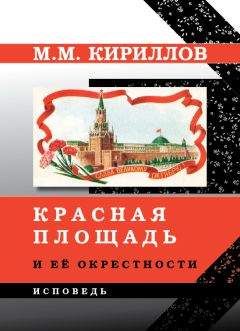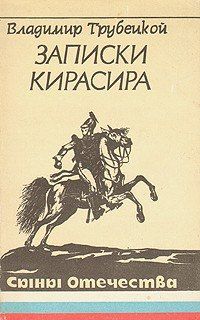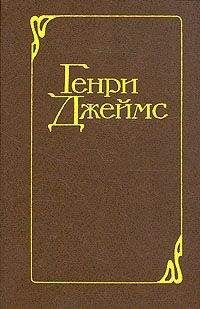Поездки в Удельную приносили не только радость общения с семьей Мельшина. Не один Придворов любил этот дом, не один он сюда ездил в дождь и в мороз. Здесь он встречал тех, при чьем «ближайшем участии», как это было сказано на титульных листах «Русского богатства», издавался журнал. Тут Придворов увидел Николая Федоровича Анненского — близкого друга Короленко; того Анненского, из-за статей которого чуть не закрыли журнал… Знакомясь с этим старым человеком, лицо которого выражало бесконечную доброту и благородство, Ефим Алексеевич понял, что видит его не впервые. Цепкая зрительная память, кажется, навеки сохранила перед ним всю картину.
Было 9 января. Оглушенный всем происходящим, он забежал в Публичную библиотеку. Не может быть, чтобы и там стреляли…
Едва Придворов попал в вестибюль, как увидел людей, ведущих, под руки старика, лицо которого потрясало выражением муки. Придворов никого не заметил, кроме плачущего старика. И только много позже, когда об Анненском написал Горький, стало ясно, что в тот день безвестный студент стоял рядом с писателем, которого уже знал по портретам. Но не заметил…
«Я вот как сейчас вижу перед собой его хорошее лицо, — писал после Горький. — Рыдал он, кажется, беззвучно, но показалось мне, что он оглушительно кричит». «…Я много видел слез отчаяния и скорби, но мне думается, что слезы Николая Федоровича Анненского в день 9 января — самые страшные и сжигающие душу человеческие слезы…»
В доме у Петра Филипповича Придворов впервые пожал руку Анненскому. Здесь же Ефим Алексеевич познакомился и с Короленко, который приезжал по-дружески, иногда прихватив старшую дочь Соню.
Но даже и те замечательные люди, которых Придворов здесь не встречал, становились как бы ближе: запросто, как о своих, говорили здесь о Вере Фигнер, «шлиссельбуржце» Николае Морозове… И по этим разговорам он мог живо представить себе, каковы они в привычках, обращении, достоинствах и недостатках.
Одно огорчало Придворова: как только речь заходила о Горьком, лицо Петра Филипповича суровело: осуждал за близость к большевикам. Когда-то они «столкнулись лбами» на дне рождения «патриарха народников» Михайловского. Поспорили насчет «Искры», Мельшин прямо заявил, что эту газету он «рвет и жжет, рвет и жжет… А вон Горький… — и он с досадой махал рукой, — поддался!». Придворову же разобраться, а тем более войти по этому поводу в спор было никак не возможно. Только инстинктом чуял, что его большой друг слишком горячится и где-то не прав. Ну как же? На Горького — и рукой махнуть? Нет, если ему и мечталось с кем-то из писателей повстречаться, то именно с ним!
Другие приезжавшие сюда люди не всегда интересовали его. Правда, связь с ними была полезна: благодаря соиздателям «Русского богатства» — Горнфельду, Пешехонову — он начал бывать в Литературном обществе; там, в свою очередь, познакомился с другими деятелями литературы.
Еще шире стал круг знакомых лиц, когда Якубовичи, наконец, оставили Удельную. Переехав в город, семья поселилась на Выборгской стороне. Придворов почувствовал облегчение. Пусть недалеко было до вокзала, да и от станции — не больше десяти минут ходу, но сколько высвободилось времени! А оно было ох как нужно! Из-за поездок он запустил учеников. И вот результат: репетиторские дела, пошедшие было отлично, пошатнулись. Сохранилась записка с подсчетом «убытков»:
«С шестого прекратили занятия Кадзевичи (15 р.), Селицкий (10), Штендер (10), Чеботарев (7), Дубинин (15), Генделевич (10). Шесть человек сразу = 72 рубля. Что будет дальше, любопытно».
А ведь в один только Университет надо было внести за право учения двадцать пять рублей. И наконец, с некоторого времени деньги стали особенно нужны: предстояла женитьба.
Еще в прошлом году у Придворова появилась ученица — Вера Косинская. Она пришла по объявлению в газете: «Студент Спб. Императорского университета готовит за недорогую плату по всем предметам». Девушка хотела поступить на акушерские курсы.
Вера сразу понравилась своему репетитору не только внешне. Он ценил в людях энергичность, бойкость характера — вялости не любил ни в ком. Живая, веселая, Верочка стала бывать у репетитора чаще, дольше, чем требовали занятия. Отношения становились все более близкими, а намерения — серьезными.
Одно мешало — вечные поездки в Удельную. Приходилось объяснять, почему он всегда уезжает туда без нее:
— Понимаешь — это не то, что называется «бывать в гостях», — я приеду, а Дима наказан, стоит в углу: любит кататься на крыле отцовского бюро, а Петр Филиппович сердится. Ну, я сяду разбирать стихи, письма. Только Дима повернется украдкой — сострою ему этакую жа-алостливую физиономию. Мальчишке веселее (подумаешь, грех!). Другой раз мы с ним рисуем, пишем стихи, а то даже играем во дворе в лапту, «чижа», бабки или бегаем наперегонки. Бывает, что отец с матерью заняты своими делами или уходят. Я ведь их не связываю… Никогда не знаю, как и с кем проведу время, кого у них застану.
Вера немножко дулась, но ревновать было вроде не к чему.
Теперь равновесие восстановилось. Да вскоре и сам Придворов переехал на другую квартиру, и теперь уже вместе со своей женой Верой. Его прежние адреса оказались перечеркнутыми в записной книжке Мельшина, озаглавленной «Поэты «Русскою богатства». Эта книжка и сейчас хранится в рукописных фондах Пушкинского дома: на листке под литерой «П» можно прочитать перечеркнутые карандашом адреса Ефима Алексеевича Придворова: Николаевская, 12, кв. 23; Садовая 14, кв. 16. В книжке почему-то не появилось новой записи — Пушкинская, 3; но удивительно не это (какая-то случайность), а то, что, будучи по-прежнему привязанным к Петру Филипповичу, Придворов не закрепился в редакции «Русского богатства» как автор.
За полтора года журнал напечатал всего три его стихотворении. Остальное было отвергнуто: цензура… Да и только ли она? Что же? Смириться? Больше не писать, писать иначе? Этого он не мог. Писать без надежды напечатать? Этого он тоже не мог. Убеждение в том, что поэзия должна служить людям, народу, о чем говорил и Петр Филиппович, уже сложилось полностью. Лирические стихи, что прячут под подушкой или читают лишь в интимном кругу? Нет, такое ни по складу характера, ни по характеру поэзии было категорически не для него.
В то же время камнем на сердце ложились стихотворные исповеди Петра Филипповича, в которых был высказан горестный итог пройденного пути: «позор и мерзость запустения, на месте некогда святом…», «Затерты славные стези, потушен факел идеала, и знамя светлое в грязи…»
Листая стихи своего необыкновенного, чудесного друга, Придворов чувствовал, что не может повторить вслед за ним признание: