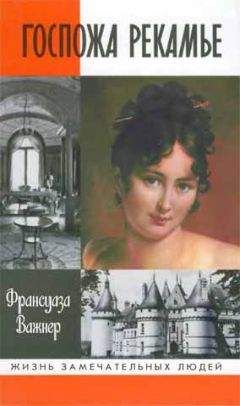В октябре 1807 года знала. А когда ей стало это известно?
Во время бракосочетания? Не думаем. Ее мать, подле которой она будет жить, как и прежде, и с которой она очень близка, объяснит ей все позже: по меньшей мере, дважды, когда представится удобный случай для столь трудного признания…
Если брак был фиктивным, то не было и инцеста. Жюльетта Рекамье не Ослиная Шкура, не принцесса, преследуемая отцом-извращенцем. Рекамье, напротив, осыпал ее щедротами, по малейшей просьбе она тотчас получала какие-нибудь платья цвета Луны или Солнца… Он баловал ее, как ребенка, что, впрочем, порицала одна из сестер Рекамье, Мария-Антуанетта, которая так комментирует этот странный брак:
<…> она смотрела на него скорее как на отца, чем супруга; он же, чтобы вызвать любовь к себе, превратил ее в избалованного ребенка, потакая всем ее прихотям. Ее мать, г-жа Бернар, потворствовала этому, внушая дочери, что та превосходит большинство женщин по красоте и богатству; в результате она уверовала в то, что может без удержу тратить деньги и жить в роскоши…
С лионской родней сладить непросто: в 1793 году ее предстояло уведомить о грядущем событии. Жак-Роз сочинил длинное и осторожное письмо свояку Дельфену, найденное Эррио, в котором в обтекаемой форме сообщил о своем намерении жениться, подходя к этому вопросу, по его собственным словам, «с совершенно спокойным умом и рассудительностью умудренного жизнью человека». Далее он описывает счастливую избранницу, не называя ее имени. «К сожалению, она слишком молода. Я нисколько не влюблен, но испытываю к ней подлинную и нежную привязанность», после чего добавляет, не без скрытого юмора: «Трудно быть более счастливо рожденной». В конце концов он называет мадемуазель Бернар. «Разлучу ли я сию молодую особу с ее отцом и матерью или нет — общественному мнению не в чем будет меня упрекнуть…» Далее он вскользь упоминает о «чувствах к дочери», которые, можно сказать, «сродни тем, что он испытывал к матери…». Поясняет, что, по его прикидкам, ее состояние насчитывает чистыми от 200 до 250 тысяч ливров в ценных бумагах, которые «содержатся в идеальном порядке, как в хозяйстве, хорошо налаженном, но не допускающем излишеств…». Этот маленький шедевр дипломатии тем не менее вызвал некоторый переполох в семейном гнезде.
Вот что говорит свидетель второго плана — и представитель третьего поколения — Луи де Ломени, один из зятьев г-жи Ленорман: «Г-н Рекамье как-то отправился в Белле повидаться с семьей <в конце Империи> и, увидев в салоне бюст Жюльетты, воскликнул: „Вот моя кровь!“» Эта откровенность, подтверждающая письмо Камиля Жордана, по-видимому, способствовала принятию Жюльетты в клан… Принятию постепенному, в чем немалую роль сыграло удочерение малышки Сивокт, будущей г-жи Ленорман.
Как бы то ни было, эту странную пару составляли люди ласковые и привязанные друг к другу: Рекамье, хоть и продолжал вести частную жизнь вне дома, дал Жюльетте, кроме своего имени, богатство и покровительство. Когда он состарился — а умер он в очень преклонном возрасте, — Жюльетта, в свою очередь, взяла на себя труд заботиться о нем. Приличия соблюдались, за исключением одной характерной детали: г-н Рекамье всегда говорил Жюльетте «ты», тогда как она неизменно обращалась к нему на «вы».
Что до пресловутых «обстоятельств», то пора покончить с коллективным вымыслом, умалением достоинств женщины красивой, богатой и знаменитой, к тому же умеющей пробуждать в мужчинах пылкие чувства. При ее жизни судачили главным образом о ее фиктивном браке, за исключением небольшого стишка по поводу ее связи с Шатобрианом:
Бог их простил, не смея наказать:
Взять не могла Она, что Он не в силах дать.
Типичная эпиграмма в парижском духе, но опровергнуть ее не составляет большого труда: когда знаешь о любовном долголетии Шатобриана, желание выставить его импотентом просто смешно! Что касается дамы из Аббеи-о-Буа, ее сдержанность являла собой тайну — но и только.
Зачинателем сплетен стал главным образом язва Мериме, так высказавшийся однажды о добродетельности г-жи Рекамье: «Это форс-мажорное обстоятельство![16]» Мериме всей душой ненавидел Жюльетту, похитившую у него молодого Ампера, с которым автора «Коломбы» связывала крепкая дружба, возможная только в двадцать лет. Мериме так ей этого и не простил. Его словечко, пущенное по свету и приобретшее дополнительные оттенки, упало на благодатную почву: в то время Шатобриан сошел с авансцены французской литературы. Недоброжелатели упивались мыслью, что, хотя Жюльетта и баловень судьбы, она не женщина в полном смысле этого слова, ибо страдает от некоего природного «изъяна». Глупости! И Эррио первым это опроверг.
Он приводит три аргумента.
Во-первых, «удивительная физическая гармония», присущая г-же Рекамье на протяжении всей ее жизни. «Устойчивость этого равновесия, постоянство характера, отсутствие раздражительности, верность суждений — все это не вязалось с гипотезой о каком-то природном отклонении». Верно. Во-вторых, тот факт, что в 1807 году в Коппе Жюльетта с легкостью приняла предложение вступить в брак от прусского принца Августа. И с этим мы тоже согласны.
Однако мы не согласны с последним доводом, что г-н Рекамье, отказываясь дать согласие на развод, о котором Жюльетта его попросила, якобы сожалел о том, что «принимал во внимание чувствительность Жюльетты и отвращение к нему, иначе, будь их связь более близкой, у нее не возникло бы и мысли о разводе». Это, по сути, означает, что Рекамье не вступал в брачные отношения потому, что Жюльетта этого не желала (следовательно, если у нее был выбор, то о физическом изъяне нет и речи). Рекамье никогда ничего подобного не писал. Это чистое измышление Ленорман, которой, впрочем, довольно трудно оправдать поведение тетушки во время прусского «кризиса». Все известные нам письма Рекамье к Жюльетте проникнуты отеческой терпимостью. До сентиментального шантажа эти люди не опускались. Слово «отвращение», то и дело срывающееся с пера г-жи Ленорман, — это ее привычная риторика, как нельзя лучше характеризующая ее образ мыслей.
Повторяем, что, хотя Рекамье и его внебрачная дочь формально состояли в браке, они никогда не жили супружеской жизнью. Они могли бы, после того как стихли революционные бури, обвенчаться в церкви. Разумеется, они этого не сделали. Они могли бы развестись, что допускал закон от 20 сентября 1792 года, остававшийся в силе. Они и этого не сделали, хотя, возможно, думали об этом. Вероятнее всего, что, однажды вжившись в новые роли, они свыклись с ними. Им потребовалось приспособиться к своему положению и поддерживать равновесие, которого это положение требовало. Они делали это с непринужденностью, позволившей им забыть, что толкнуло их на такой шаг, и прожить каждый свою, но в целом счастливую жизнь. «Жить как заведено» — этот кодекс общественного поведения, основанный на воспитанности и выдержке, несомненно, помог им в этом.