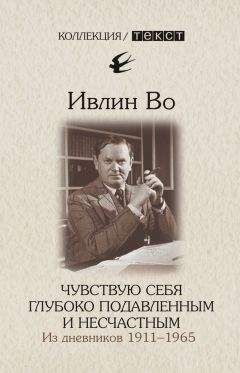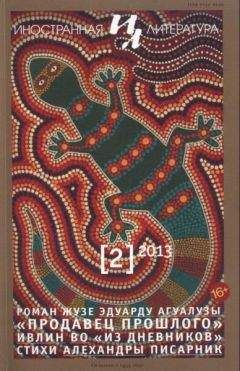Среда, 17 декабря 1924 года По-прежнему пишу письма в частные школы, где морочу голову директорам, себя же превозношу. И по-прежнему пытаюсь переделывать «Храм». Директор школы «Арнолд-хаус» в Денбишире и еще один – из Плимута вроде бы проявили ко мне некоторый интерес – остальные же молчат. В пятницу собираюсь в типографию «Пэр-Три пресс». <…>
Среда, 24 декабря 1924 года Послал Оливии (Планкет-Грин. – А. Л. ) принадлежащий Алеку экземпляр «Ираиса» [108] . Уж не влюбился ли я в эту женщину? Ходил с Теренсом в «Нибелунги», после чего посадил его на оксфордский поезд. Завтра Рождество.
Рождество 1924 года Решил отрастить усы – обзавестись новыми туалетами я не смогу еще несколько лет, а ведь так хочется видеть в себе какие-то перемены. К тому же, если мне предстоит стать школьным учителем, усы помогут произвести на учеников должное впечатление. Сейчас я так непристойно молод, что вынужден перестать регулярно напиваться. На Рождество мне всегда немного грустно – отчасти потому, что немногие мои увлечения приходились, как ни странно, именно на рождественскую неделю; так было с Лунед, с Ричардом, с Аластером. Теперь же, когда Аластер находится от меня на расстоянии тысячи миль, когда мне тяжело на сердце и нет никакой уверенности в завтрашнем дне, – всё не так, как было раньше. <…>
Среда, 31 декабря 1924 года <…> В понедельник заказал себе новый плащ у нового портного Готлопа, которого мне порекомендовал Тедди Стил. Вечером ходили с матерью на дебют Тони в «Дипломатии». Смотрелся он превосходно, да и играл неплохо. Пьеса не дурна. Глэдис Купер неподражаема. Вчера утром звонила Оливия, пригласил ее позавтракать в баре «Восход солнца». Опоздала минут на двадцать пять. В ожидании пил джин с тоником. Наконец явилась: разодета в пух и прах, туалет совершенно несообразный. Бедные завсегдатаи бара выпучили на нее глаза, перестали сквернословить, впопыхах осушили стаканы и убрались восвояси. Мы же съели по куску пирога с телятиной и ветчиной, выпили джина и запили его бенедиктином. <…> Из частных школ новостей по-прежнему никаких. Сбрил усы, которые начал было отращивать. <…>
Пятница, 2 января 1925 года От мистера Бэнкса из Денбишира пришла телеграмма; предлагает встретиться в понедельник. Молю Бога, чтобы эта встреча принесла мне работу и деньги. Вечером танцы у леди Парес; скучал ужасно. Урсула Парес – прелестное дитя.
Понедельник, 5 января 1925 года Написал Оливии, что накануне вечером [109] был трезв (неправда) и искренен (полуправда). В 4.30 неожиданно явился Аластер: по дороге домой несколько недель ничего не ел и не мылся; в отвратном французском готовом плаще вид у него – хуже не придумаешь. Помылся, побрился – и похорошел. Пришлось идти пить чай с мистером Бэнксом из школы «Арнолд-хаус» в Денбишире. Оказался высоким стариком с глупыми глазами. Остановился в отеле «Бернерз». Дает мне 160 фунтов, за эти деньги мне надлежит целый год учить маленьких детей. Перспектива, что и говорить, незавидная, но в моем бедственном положении – лучше не бывает. Школа, насколько я понимаю, находится в такой глуши, что потратить деньги на что бы то ни было не представляется возможным. Вечером пришел выпить Ричард. У Чепмен-энд-Холла ангина.
Воскресенье, 11 января 1925 года
Купил уродливый джемпер с высоким горлом – выгляжу лет на десять, никак не старше.
В новом джемпере и в самом непроглядном тумане, какой мне приходилось видеть, отправился на завтрак к Гвену Оттеру. Дом нашел с большим трудом – на углу Кингз-роуд и Ройял-авеню. Врезался головой в стену, на которой прочел написанное мелом: «ТЫ ОМЫЛСЯ КРОВЬЮ АГНЦА?» Ужас. <…>
Обещал выпить чаю с Оливией и, проплутав в тумане несколько миль, часов в пять явился на Ганновер-Террас. В одиночестве пили чай перед газовым камином, вяло переругивались. «По-моему, ты меня больше не любишь», – твердила она, а когда я попытался доказать, что люблю, проявила полное безразличие.
Хэмпстед,
вторник, 20 января 1925 года
<…> Подозреваю, что вчера вечером был ужасно утомителен. Отказывался идти, пока Оливия не встанет передо мной на колени и не извинится [110] . Отказалась – и правильно сделала. В довершение всего уронил на пол пластинку.
Проснувшись утром, с ужасом вспомнил, что спустил все деньги, с которыми собирался ехать в Денбишир. Пришлось заложить кольцо, табакерку и часы Одри в ломбарде вроде того, который принадлежит мистеру Аттенборо. Выручил 4 фунта. Ростовщик был мил. Злобный и неопрятный еврей, оскорбляющий меня и измывающийся над моими вещами, которого я нарисовал в своем воображении, на поверку оказался обаятельным и красивым джентльменом, похожим на крупного чиновника. Он с восхищением отозвался о моей камее и, кланяясь, проводил нас, Одри и меня, до дверей, так, словно мы приобрели у него жемчужное ожерелье. <…>
Среда, 21 января 1925 года В мой последний день в Лондоне мы с Оливией стали друзьями. Звонила мне и сказала, что хочет меня видеть. Ее родители должны были прийти пить чай, поэтому я позвал ее позавтракать. Явилась на пять минут раньше времени и была очень мила. Сидели под книжными полками, и она твердила мне, что я – великий художник и что мне нельзя быть школьным учителем.
Пятница, 23 января 1925 года
«Арнолд-хаус», Лльянддулас, Денбишир. Уложил свои рисовальные принадлежности, одежду, отрывки рукописи «Храма», а также Хораса Уолпола [111] , «Алису в стране чудес», «Золотую ветвь» [112] и еще несколько книг и отправился на вокзал Юстон. В Юстоне и Честере ко мне присоединились небольшие унылые группы учеников в красных фуражках и в слезах. В вагоне они съели немыслимое количество конфет; когда же за вторым завтраком осушили вдобавок кварты имбирного пива и лимонада, можно было поручиться, что кому-то из них в самое ближайшее время станет плохо. Слава Богу, до Лльянддуласа мы доехали без приключений, и, несмотря на телеграммы мистера Бэнкса, поезд на станции остановился. Крошечное такси доставило меня и две сотни чемоданов до места. Стоит школа на такой крутой горе, что испытываешь странное чувство: поднимаешься на третий этаж, выглядываешь из окна – и кажется, будто остался на первом. Внутри три крутых лестницы из соснового дерева, одна выстлана ковром, две другие – нет, и несколько миль коридоров с отполированным до блеска линолеумом под ногами. Имеется учительская, где мне предстоит проводить большую часть времени. В учительской линолеум отполирован еще лучше (или, как шутит Алек, «лучше́е»), стены красные, на стенах тошнотворные картины, несколько кресел, из них два – мягких, ацетиленовая лампа, горит еле-еле, камин и проигрыватель. И четыре молодых человека. Одного зовут Чаплин, он учился в Сент-Эдмундс-Холл [113] , где жил в одной комнате с Джимом Хиллом. Чаплин обожает Флекера [114] и является племянником мистера Бэнкса. Из четырех молодых людей он – самый лучший. Второй – Гордон – унылый зануда в пенсне, с учениками не церемонится. Чаплин, Гордон и я живем в домике под названием «Санаторий», куда круто поднимается тропинка, петляющая между лепешками навоза, кустами крыжовника и каменными стенами. Имеются в наличии и два новых учителя. Один – очень высокий, величественный и пожилой, зовут Уотсон, учительствовал в Стоу [115] и в Египте. Уотсон – обладатель орлиного носа и шотландского акцента; собирается в скором времени приобрести собственную школу. Другой новый в школе человек – Дин: очень неопрятен, сиреневый подбородок, бесцветные щеки, говорит на кокни и все время сморкается. Этот – хуже всех. У мистера Бэнкса есть жена, своим внешним видом она заметно уступает леди Планкет (леди Планкет-Грин. – А. Л. ) или миссис Херитедж. Есть у него также женатый сын; самого сына я никогда не видел, но не раз слышал в коридоре его голос, и голос мне не понравился. Таковы обитатели моей школы, если не считать целой армии горничных, что суетливо мечутся по коридорам с полными мочи ночными горшками. А также – учеников. Пока что встретил лишь нескольких; некоторые на вид вполне славные.